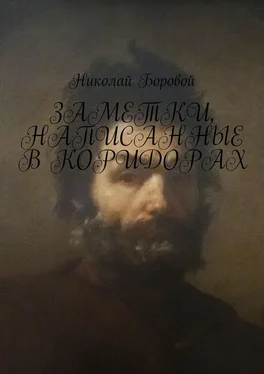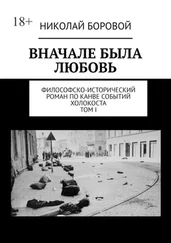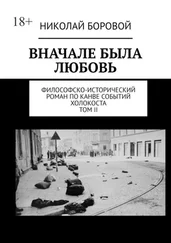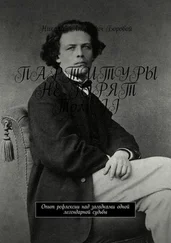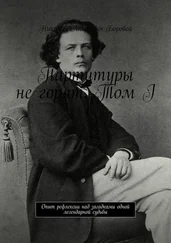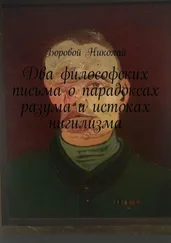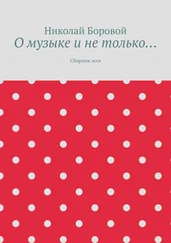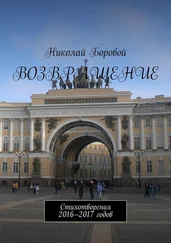Николай Боровой - Заметки, написанные в коридорах
Здесь есть возможность читать онлайн «Николай Боровой - Заметки, написанные в коридорах» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. ISBN: , Жанр: Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Заметки, написанные в коридорах
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005047373
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Заметки, написанные в коридорах: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Заметки, написанные в коридорах»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Заметки, написанные в коридорах — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Заметки, написанные в коридорах», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Так где же «множество уникальных» полотен, о наличии которых в Галерее Ханенко повествуют арт-путеводители Киева? Навряд ли речь идет о заурядном полотне Тьеполо, о эскизе Рубенса, о «не совсем Йордансе», о «может быть Перуджино», хотя само по себе полотно «Мадонна с младенцем» несомненно очень значительно, о копии с портрета Рембрандта или серии заурядных нидерландских пейзажей, натюрмортов и портретов. Полотно Босха – честь для любого музея, и несомненно, при всем трепете, который вызывает настоящая живопись классического Возрождения, все же счесть «уникальными» полотна мастеров второго и третьего ряда нет оснований – Эрмитаж, к примеру, изобилующий подобными полотнами, вовсе не торопится классифицировать оные как «уникальные». Конечно – если не считать уникальным сам факт наличия хотя бы какой-то настоящей европейской живописи в широтах, столь удаленных от исторических очагов европейского искусства. К тому же, путеводители описывают исключительное богатство коллекции, насчитывающей чуть ли не десятки тысяч артефактов, однако вся экспозиция в особняке Ханенко навряд ли переходит за сотню выставленных полотен. Если действительно существуют значительные произведения искусства, которые не выставляются по причине отсутствия надлежащей для этого заботы государственных учреждений, остается лишь об этом сожалеть. К тому же, как подчеркивают источники, коллекция музея пострадала во время революции и ВМВ, в частности – утверждается, что в 1922 году была продана классическая работа Кранаха «Адам и Ева», ныне висящая в Дрезденской галерее. Работы Кранаха сами по себе уникальны, но если даже это был Кранах (сюжет «Адам и Ева» в каноническом, близком к кранаховскому исполнении, был очень распространен в начале 16 века), то в любом случае, даже вкупе с «якобы Перуджино», «якобы Йордансом» и Босхом, собрание Ханенко было бы далеко от значительного живописного собрания. Остается лишь сожалеть, опять-таки, что за «государственный период» в истории этого собрания, государственные структуры не приложили достаточных усилий, чтобы существенно нарастить собрание и придать ему подлинной художественной значимости. Более же всего, возможно, удручающее впечатление производит та претенциозность, зачастую не вполне профессиональная, в духе «у нас не хуже, чем везде», с которой экспозиция оформлена, атрибутирована и преподносится посетителю.
ЛЬВОВСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ВО ДВОРЦЕ ПОТОЦКИХ
Львовская картинная галерея – значительное, разноплановое и во многом замечательное собрание живописи, объемлющее как искусство 14—18 века, так и живопись от 19 века и до наших дней, включая классическое наследие русской живописи.
Собрание галереи располагается в разных зданиях – живопись 14—18 веков размещена во дворце Потоцких на ул. Коперника, живопись 19-21- веков – в здании на той же улице, кроме того – элементы экспозиции размещены в нескольких замках вокруг Львова, в том числе – в Злочевском и Олесском.
То собрание европейской живописи во дворце Потоцких, которое мне довелось посмотреть, куда в большей мере имеет право претендовать на статус Национальной Галереи, нежели собрание киевской галереи Ханенко. Оно не уникально, но замечательно, и в известной мере может быть сопоставимо с не слишком большими, но качественным европейскими собраниями живописи.
Прежде всего, если начинать с самого простого, интерес вызывает значительное количество полотен немецких мастеров 18 века, которых даже в Эрмитаже, в специально отведенной для этого анфиладе, представлено не так уж много, а кроме того – полотен таких широко известных в Восточной Европе, но не слишком известных за ее пределами пражских мастеров, как Карл Шкрета и Ян Купецкий, прекрасные работы которых выставлены в Национальной Галерее в Праге. Львовская Галерея по праву может гордиться небольшой, но качественной и редкой для этого региона подборкой полотен Французского, Немецкого и Итальянского Возрождения 14—16 веков, включая «Юдифь с головой Олоферна» Кранаха-старшего. В галерее есть несколько прекрасных, характерных по стилистике портретов 16 века французской и итальянской работы, несколько классических испанских портретов 17 века. Галерея располагает портретом работы зрелого Веронезе и портретом работы Тициана. Авторство последнего оспаривается искусствоведами, однако речь идет о прекрасном полотне, самом «тициановском» из всех, вызывающих сомнение. Галерея располагает двумя прекрасными портретами работы Рубенса, вообще – значительным количеством небольших, но качественных фламандских полотен самой разной направленности – от портрета и маренистики до городского пейзажа и натюрморта. Разножанровая голландская живопись 17 века так же представлена – пусть и небольшим количеством работ. В галерее выставлены два прекрасных и достаточно известных портрета работы Менгса, очень качественный морской пейзаж кисти Клода Веррена, несколько хороших портретов и бытовых полотен 18 века – это если о французской живописи. Итальянское барокко 17 века представлено значительным количеством полотен разного масштаба, вплоть до монументальных, принадлежащих кисти мастеров не первого плана, но вызывающих от этого не меньший интерес. К числу таких относится, к примеру, очень характерное, напоминающее множественные эрмитажные работы, полотно неизвестного авторства, атрибутированное как «Библейские сцены» – и атрибутированное, как представляется, не вполне верно. Сюжет полотна разворачивается на фоне пейзажа, который возможно назвать «ветхозаветным» со значительными оговорками – таковой вполне подходит под «среднеитальянский» гористый пейзаж возрожденческих и барочных полотен, о «ветхозаветном» контексте могут напомнить только выписанные художником пальмы да античные одеяния двух из трех персонажей полотна. Возможно – еще один момент. В высоте небес ярко сияет звезда, в христианской символике означающая благую весть о приходе в мир Мессии, света спасения и истинной веры. Возможно, присутствие этого художественно-религиозного символа в полотне, побудило атрибутировать его в «ветхозаветном» контексте, однако, побудило совершенно ошибочно – возвещающая благую весть звезда в небе, привнесена в сюжет и пространство полотна во имя совершенно иных целей, нежели как таковое повествование о евангельских событиях. Персонажи картины – это прежде всего два ученых христианских мужа, которых барокко 17 века, от Гверчино и Риберы до самых малоизвестных мастеров, излюбленно изображает в образе библейских отшельников или старцев. Один из них сидит перед раскрытой книгой, на листах которой написано по латыни «Non est quid facciat bonum, non est qui us ad unum», что в переводе означает – «то, что он делает, не хорошо, никто не пришел к нам оттуда». Второй персонаж полотна, напоминающий классический образ барочного «библейского старца», наклонив лоб и уперев взгляд, обращается к третьему персонажу картины и указывает ему на сияющую в небе звезду – символ благой вести. Вот этот «третий» персонаж вызывает интерес и кажется должен определять тематическую атрибутику полотна, опровергая уже существующую. Перед нами, со всеми характерными «опознавательными» символами – исхудалое, обрамленное острой, всколоченной бородой лицо, воспаленный от мук и сомнений, во многом отчаянный взгляд, свеча в фонаре посреди «бела дня» – безошибочно предстает Диоген, вместе с иными античными философами – излюбленнейший образ барочной живописи 17 века, семиотически изображенный почти так же, как он изображен на знаменитом полотне Риберы из Дрезденской Галереи. Центральная роль образа Диогена в сюжете, придает сюжету и самому полотну совершенно иной и более определенный смысл: Диогену со свечой, а вместе с ним и вообще античной философии с ее поисками истины, христианский ученый муж указывает на свет благой вести и истинной веры, на свет истины, пришедшей в мир вместе с Христом. То есть – перед нами своеобразное «обращение Диогена», или же «наставление Диогена» на истинный путь, фактически – полотно, атрибутируемое как «Библейские сцены», на самом деле визуально воплощает столь свойственный и христианству как таковому, и «возрожденческому» христианству в частности, диспут с античностью и философией как знаковым символом античности и «борьбы за истину». Перед нами – воплощенный в живописном сюжете диспут «веры и философии», диспут античности и христианства в борьбе за «истину» и власть над умами. Христианство периода Возрождения и Барокко, соотносящееся с наследием античной философии, вынужденное относиться к нему без однозначного осуждения и даже признающее в некоторых его фигурах «провозвестие», «прозрение» и «близость истинной вере», при этом всегда подчеркивало свое моральное торжество и превосходство над античной философией и ее исканиями. Оно уже не обрекает столь возлюбленных его сердцу языческих философов – Платона и Аристотеля, Сенеку и Диогена, Демокрита и Гераклита – на безнадежную участь в аду, которая ждет всех, не познавших святого причастия и крещения, но по-прежнему подчеркивает свое превосходство и отсутствие в античной философии главного – откровения о спасении и истинной вере. Диспут этот принципиален для христианского сознания и его символики, как и диспут с иудаизмом, подобного рода «диспуты» словно раскрывают сложное отношение к двум мощным культурным наследиям и первоистокам, на руинах и в пространстве которых, и в оппозиции к которым, христианство утверждало себя. К примеру – в романе «Камо Грядеши» Генрика Сенкевича, образ грека-философа, предателя, безнравственного человека с утонченным интеллектом, в конце романа кающегося и ужасающегося последствиям своего предательства, почти канонически воплощает этот диспут и позицию христианства в отношении к античности. Не ведающий о спасении и изувеченный сомнениями и отчаянием ум, как бы ни был он искушен, не может быть прав. Утонченная софистика, оторванная от совести и «обрезания сердца», не ведающая покаяния и моральной чистоты человека, через совесть обратившегося к «богу в себе», не может быть речью истины. В миссии «приближения к истине», христианство сменяет античную философию и торжествует над ней, иногда – отдает ей должное. Все античные искания истины разумом бессмысленны и более не нужны, ибо в мир пришел свет откровения и истинной веры – эту мысль несет полотно из Львовской Галереи, ее словно бы произносит христианский ученый, указывая Диогену на благовестную звезду в небе. Все тщетные блуждания античной философии в поисках истины, должны закончиться и отступить перед торжеством той единственной истины, которая пришла в мир вместе со светом откровения и Христом – эта мысль обращена к зрителю из сюжетного и образного ряда полотна. Торжество истины христианского откровения над тщетными попытками античной философии искать истину и привести к истине —таков смыслообраз этого полотна. Это полотно должно быть атрибутировано именно так, ибо атрибутика образа Диогена несомненна – кроме него никто не блуждает «днем с огнем» – а сам образ Диогена в контексте общего сюжета полотна, исключает возможность его иной тематическо-смысловой интерпретации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Заметки, написанные в коридорах»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Заметки, написанные в коридорах» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Заметки, написанные в коридорах» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.