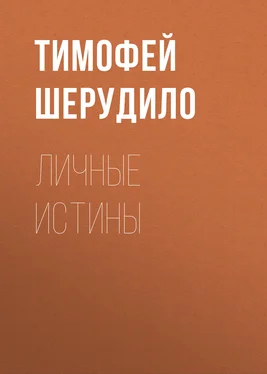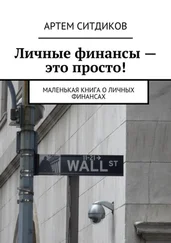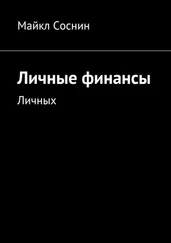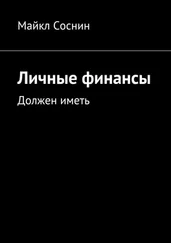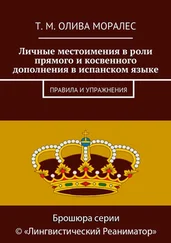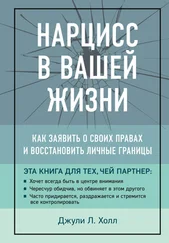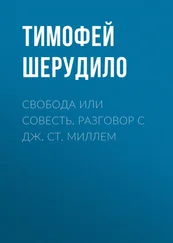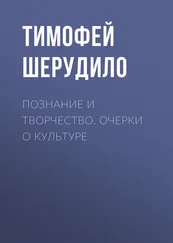***
Вопрос о том, почему в мире существует зло, занимавший столь многих философов, никогда не привлекал моего внимания. Злом мир стоит и злом подпирается, что же еще спрашивать? Гораздо более любопытно, на мой взгляд, то, что при всей удобопревратности мира ко злу – в нем есть добро , и это добро неуничтожимо. Здесь я вижу настоящий вопрос. Трудность не в том, как примирить всеблагого Бога с неблагим мирозданием, т. е. создать «теодицею», трудность (или, скорее, радость, раз уж мы смотрим на дело с противоположной стороны) – радость в том, что в подвластном злу мире постоянно присутствует добро, гонимое, угрожаемое, но не выводимое из мира никакими усилиями зла. Мало кто занимается сегодня теодицеями, зато почти все убеждены в том, что зло есть почва и дом человеческой души, а если и не зло, то внеморальное природное существование, состоящее в пожирании слабых сильными, которое отличается от зла одним названием. Таким образом, вопрос о «теодицее» – примирении идеи всеблагого Бога с видимой властью зла – на глазах сменяется другим вопросом: о всемогуществе зла и призрачности мирового добра. Продолжая линии рисунка, мы должны сказать, что впервые в истории мысль задалась доказательством всемогущества сатаны , и само «заинтересованное лицо» (как говорил Вл. Соловьев об Антихристе) предъявляет всё новые доказательства своей власти. При так поставленном вопросе наличие и неуничтожимость добра в мире выглядят очень добрым признаком, пусть даже нам и приходится представить себе борющегося Бога – образ, который не приходил на ум средневековью (с его приверженностью неподвижным формам) и новому времени (с его страстью к оптимистическим построениям 5). «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» – пожалуй, лучше эту мысль не выразить.
***
Мораль – сплав представлений о желательном и запретном, иными словами – о здоровом и больном. Мораль разделяет человеческие желания на достойные и не достойные удовлетворения; без признания недостойности иных желаний ее нет. На известной ступени развития последовательно проведенный «либерализм» (за отсутствием лучшего слова будем так называть приверженность к свободе ради нее самой) исключает саму возможность существования морали, и на современном Западе эта ступень уже достигнута. Все желания признаю́тся равно «естественными» и достойными, и главной задачей становится охрана человеческой личности от ограничений ее права желать и добиваться желанного. Свобода оказывается бескачественной ценностью, безвоздушной средой, в которой, не встречая себе сопротивления, скользят желания… Поощряется безудержное и ненасытное формообразование – при полном небрежении содержанием, тогда как мораль, с ее запретами и побуждениями, способствовала в первую очередь выработке богатого и сложного содержания (чтобы не вдаваться в долгие объяснения – уже потому, что пресекала все простые и низменные поползновения). Упразднение морали привело к обвалу содержания и бережной охране опустевшей формы. В словах «свободная личность» ударение поставлено на «свободе», «личности» же может не быть вовсе. Взгляд на общество как на охраняемое законом разнообразие всё более пестрых форм напоминает восторг исследователя перед какой-нибудь «восхитительной плесенью», да, пожалуй, имеет с ним один корень: это то же учение Дарвина о бессознательно развивающихся формах, примененное к обществу. Цениться начинает даже не сама форма, но та стремительность, с которой формы меняются и распространяются; не случайно ключевое слово современного общества – пресловутая «динамичность». Свобода верить и трудиться, о которой пеклись наши предки, оказалось свободой атомов, правом на хаотическое кружение . В этом безумии, однако, есть своя последовательность. Несколько столетий назад борьба шла именно за право выражать определенные содержания ; со временем положительная цель забылась, осталось только требование свободы самовыражения как таковой. Спорили-то о человеческом достоинстве – а пришли, пользуясь словами Достоевского, к «праву на бесчестье». Сам предмет спора исчез. Речь шла об иных путях образования высшего человека , а не об отказе от идей роста и самоограничения, а пришло к противоположному: к освобождению от всяких ограничений, от самой тяги к высшему. Мы еще не осознали, что не просто пожертвовали нравственностью ради свободы – это, пожалуй, кое-кто сознаёт, – но ради свободы мы пожертвовали духовным ростом поколений и всем будущим человечества. Освободив личность от нравственных конфликтов, мы краткосрочное животное благополучие масс предпочли долгому и трудному росту.
Читать дальше