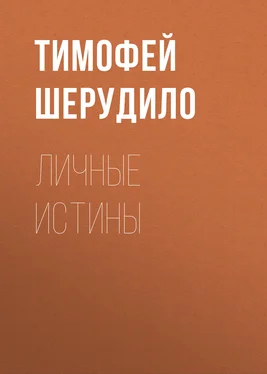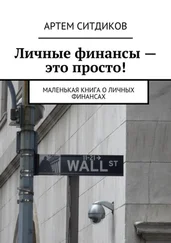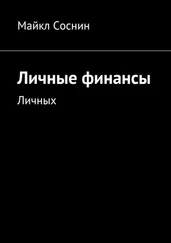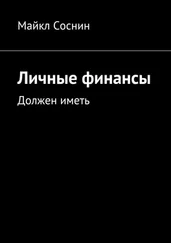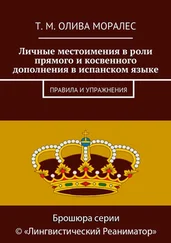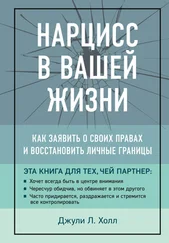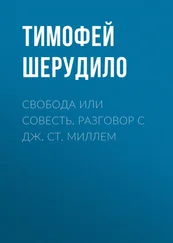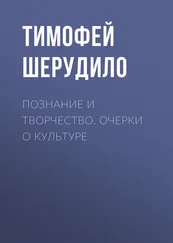***
Непосредственное ощущение таково, что где-то в глубине душа двоится между божественным и земным, дрожит на своем корню и клонится то на одну сторону, то на другую… Как будто над ней проходит ветер. Корни «плотского», т. е. в первую очередь пола, там, в темной глубине; и для колеблемого на своем основании ростка, с которым можно сравнить душу, то «плотское», какое мы знаем, – слишком грубо и вещественно, отзвук чего-то другого в нашем более плотном воздухе. Обычная ошибка разума, если уж он признаёт какое-то значение за плотским, за полом – думать, что центр, источник ощущений находится «здесь», наверху, в играх плоти (на этом пути можно дойти сколь угодно далеко вплоть до почитания фаллоса в розановской или фрейдистской разновидности), но на самом деле всё наоборот: наше вещественное «плотское» – только отзвук чего-то гораздо более тонкого, невещественного и глубокого. В этом случае жизнь пола оказывается вещественным проявлением невещественных начал, как и – страшно сказать – наша религия. Вот камень, на котором поскользнулся петербургский мудрец. Что-то тихо звенит в глубине, мы слышим колокольчик и идем на звук, и никогда не приходим , т. к. зов идет из глубины, в которую нет пути. В этом понимании (в котором и я сам, впрочем, не вполне уверен) «пол» как приспособление для продления рода и «пол» как явление душевной жизни должны быть разделены, хотя и не до конца, п. ч. тут и там происходят смешения, дух действует в плоти, а плоть влияет на дух. Нечто подобное, кажется, защищал и Платон… Во всяком случае, для человека, в переживаниях, связанных с полом, видящего только «физиологическую» сторону, «игру гормонов» – целый ряд вопросов, ряд связей душевной жизни останется незамечен и необъясним: любовь – красота – нравственность – грех – восторг – безобразие… Для него всё это только, по выражению нашего довольно-таки бесстыдного времени, «половая жизнь», для которой проповедуются «правильные приемы». И еще больше надо сказать, еще парадоксальнее: соитие, о «правильности проведения» (т. е. обеспечении наибольшего удовольствия) которого так заботится наше человеколюбивое время, не означает еще жизни пола. Можно (воистину, теперь я говорю как Розанов) иметь соития, но не иметь притом жизни пола, а только физиологические отправления – в силу собственной незрелости, т. к. для всего на свете необходимо созреть. Это в первую очередь относится к несчастным детям эпохи безграничной «половой свободы». Всё-то у них есть, кроме Эроса и любви…
***
Дух и пол проявляются в нас сменяющими друг друга волнами. В одном и том же человеке пол возвышается временами ровно настолько, насколько понижается дух, и наоборот, повышение духа, состояние бодрости и творческой готовности может быть соединено с полным отсутствием желаний. Даже больше: страсть, желание выше всего поднимается тогда, когда дух молчит; во времена внутренней темноты и подавленности. Страсть темна. Времена бодрости духа ясны и… не «бесстрастны», совсем нет, они полны напряженной и богатой жизнью, горят огнем – но без чада . Я бы даже сказал, что у духа в эти минуты есть то, в поисках чего – безуспешных! – в поисках чего он прибегает к полу с его сильнодействующими снадобьями. Разумеется, говорить о подобном можно только на основании внутреннего опыта, и эти выводы вполне могут быть осмеяны людьми, ни подъема, ни понижения в названных областях никогда не знавшими.
***
Чтобы усомниться в ценности наслаждения, одного наслаждения недостаточно. Нужна очень большая ясность сознания в сочетании с очень большой глубиной наслаждения, что не всем дается. Это как раз то, что отличает героев Достоевского. Иначе – здесь нет вопроса. Вопрос видит только тот, для кого обе бездны равно несомненны. Если же что-то одно недостаточно отчетливо в сознании, и либо пол, либо дух удается принизить до «второстепенного» – тогда, конечно, вполне возможно сохранение нравственного равновесия, безмятежности и насмешливого или презрительного взгляда на «этих ханжей» или «этих развратников»…
***
В половой любви есть нечто сладко-ненужное , причем чем слаще, тем ненужнее. Непосредственное ощущение говорит, что душа противится удовольствию. Ее суждение в этих вопросах высшее. Кстати, есть твердое и распространенное убеждение, будто высшие, непререкаемые суждения суть суждения с точки зрения морали. (Назову Льва Толстого в качестве ближайшего примера.) По меньшей мере, такое представление бытовало до нашей эпохи замены «морального» – «научным». Это представление ложно. Высшие суждения – суждения с точки зрения непосредственной душевной жизни. Только глазами души можно оценивать такие вещи как милосердие, жестокость, вожделение и воздержание… Морали нечего сказать о любви полов, просто потому, что любовь не имеет ничего общего с моралью. Судить о подобных вопросах можно только так, как это делает Евангелие, которое не говорит: «это хорошо или дурно», но говорит: «это хорошо или дурно для души ». Других достойных доверия оценщиков нет. Чтобы быть «хорошим», недостаточно найти твердую мерку своим поступкам, вернее, это приложимо не ко всем поступкам, а только к самым внешним и безразличным. Попробуйте-ка судить по какой-либо мерке мечты, намерения, сны, любовные устремления – в общем, всё самое главное ? Здесь причина неудачи толстовства, всяких поисков «мерки» и безуспешной подгонки под эту мерку своих и чужих дел…
Читать дальше