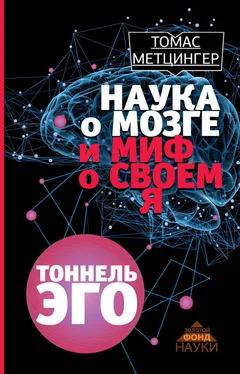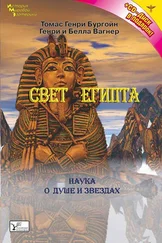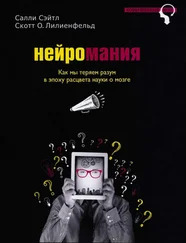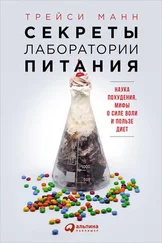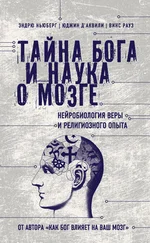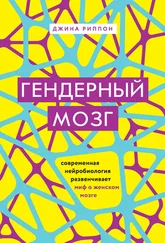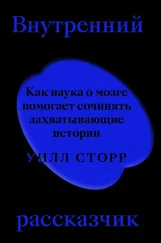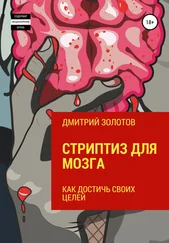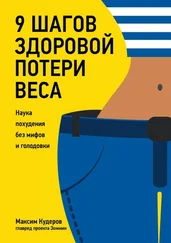Просто наблюдая за своим дыханием, вы воспринимаете автоматически разворачивающийся телесный процесс. Наблюдая за блужданием мысли, вы переживаете спонтанную активность телесного процесса. Какого именно? Множество экспериментальных исследований показывают, что за блуждание мысли ответственны области мозга, не только существенно пересекающиеся с так называемой «сетью базового режима», но также и простирающиеся далеко за ее пределы 10. Сеть базового режима обычно активируется в периоды покоя, когда сознание направляется вовнутрь. Такое случается, например, во время грез наяву, при непрошеных воспоминаниях или когда мы думаем о себе и о будущем. Как только возникает конкретное задание, эта часть мозга деактивируется, и мы тотчас сосредотачиваемся на решении насущной проблемы. Лично я предполагаю, что сеть базового режима служит также для поддержания формы и стабильности нашей автобиографической я-модели: она, подобно автоматической программе поддержки, генерирует все новые сюжеты, цель которых – внушить нам, что мы все время остаемся той же личностью. Не веря в свою идентичность во времени, мы не могли бы строить планы на будущее, избегать риска и справедливо обходиться с собратьями-людьми – ведь тогда последствия наших действий, по сути, касались бы не нас. Я предполагаю, что один из главных факторов эволюции социального взаимодействия и возникновения крупных человеческих сообществ заключается в осознании того, что именно вы получите в будущем наказание или вознаграждение, именно вы воспользуетесь благами хорошей репутации или пострадаете от дурной славы. Для этого нам и необходима «повествующая я-модель», иллюзия тождества.
Однако при ближайшем рассмотрении состояние базового режима, кажется, порождает не мысли, а то, что я назвал бы «когнитивным аффордансом» – осознанием поля возможностей, – поскольку оно допускает возможность внутренней деятельности. Оно есть, собственно говоря, предварительная ступень мысли, спонтанно возникающий психический контекст, постоянно призывающий: «Подумай меня!» Любопытно, что такие протомысли обладают вышеупомянутым полем возможностей – они открывают возможность. Эта возможность – свойство не осознаваемого Я и не возникающей в данный момент маленькой протомысли – это возможность установить отношение, отождествившись с ней. Помните пример с вашим любимым шоколадным печеньем? Если мы способны отвергнуть или отложить на будущее подобное искушение, то можем и сосредоточиться на текущем занятии. Тот же принцип действует в отношении внутренней деятельности: если мы лишь на момент лишимся сосредоточенности, то нас пленит дерзкий «Подумай меня!» и мысли начнут блуждать. Такая блуждающая мысль зачастую автоматически следует внутреннему эмоциональному ландшафту. Она, скажем, пытается сбежать от неприятных телесных ощущений и эмоций и достичь более приятного состояния, перемахивая, как обезьяна, с ветки на ветку. Кажется, не деяние – наиболее важное из человеческих способностей, поскольку оно необходимо для всех высших форм автономии. Внешние формы недеяния проявляются в успешном контроле над побуждениями («Пока я не схвачу это шоколадное печенье!»). Есть и внутреннее недеяние, проявляющееся в прекращении потока мыслей и переходу в открытое, непринужденное состояние бодрствования, следующее иногда за таким прекращением. Соответственно, есть внешнее и внутреннее молчание. Тот, кто не в силах прервать рвущийся наружу поток слов, скоро не сможет общаться с другими людьми. Тот, кто теряет способность к внутреннему молчанию, теряет связь с собой и больше не может ясно мыслить 11.
Общим для телесной деятельности, деятельности внимания и мыслительной деятельности является также субъективное чувство усилия. С феноменологической точки зрения движение собственного тела требует усилий. Но усилие требуется и чтобы удержать внимание. И, несомненно, усилие необходимо, чтобы сосредоточенно, логически размышлять. Каков нейронный коррелят этого ощущения усилия? Давайте проведем мысленный эксперимент. Представьте, что мы такой нейронный коррелят нашли (а мы скоро найдем), и что у нас есть точная, эмпирическими методами испытанная математическая модель, описывающая, что есть общего между этими тремя видами усилий. Представьте себя математиком будущего, способным понять это описание во всех сложнейших подробностях. Теперь, имея столь точное понятие, вы пытаетесь проанализировать свое внутреннее чувство усилия – очень осторожно, но с большой точностью. Что тогда произойдет? Если вы бережно и осторожно направите внимание на, скажем, усилие, сопровождающее волевой акт, покажется ли оно вам личным, принадлежащим только вам?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу