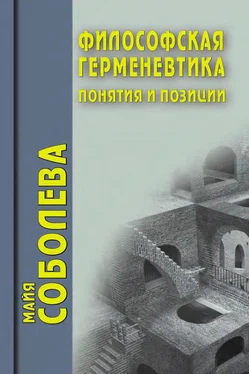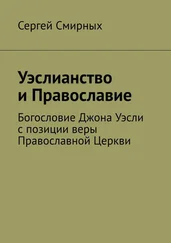Семиотическая герменевтика основывается, как правило, на двух предпосылках: во-первых, она рассматривает текст как источник знания; во-вторых, она воспринимает себя как науку. Такое самопонимание герменевтики ведет к тому, что она оказывается полностью подчинена логике, а логика становится основным герменевтическим инструментом. Концентрация на логическом анализе знака объясняется тем, что семиотическая герменевтика исходит из допущения о том, что правильно организованная система знаков репрезентирует логическую форму текста. Поскольку же логическая форма текста в свою очередь отсылает непосредственно к фактам, то из этого следует, что грамматически и синтаксически правильно построенный текст должен представлять истинное знание. Так полагал, например, Лейбниц, который впервые в истории сформулировал идею «характеристики», т. е. идею искусственного логического языка. Манфред Франк называет лейбницевский вариант герменевтики «моделью, основанной на репрезентации» [18] Manfred Frank, Die Grenzen der Beherrschbarkeit der Sprache // Philippe Forget (Hg.), Text und Interpretation. Munchen. 1984:183.
Обобщая, можно все теории, идеал которых состоит в однозначном описании действительности посредством знаков, охарактеризовать как семиотическую, репрезентативную герменевтику. Подчеркнем, что в центре ее внимания находится не сообщение, а то, при помощи каких средств происходит означивание, т. е. логический анализ знаковых систем.
В качестве более близкого по времени примера понимания текста как знаковой модели мира можно назвать «Логико-философский трактат» Людвига Витгенштейна. Так, параграф 4.01 этого труда констатирует: «Предложение — картина действительности. Предложение модель действительности, как мы ее мыслим». Параграф 4.121 гласит: «Предложение не может представить логическую форму, она в нем отражается. То, что отражается в языке, он не может представить. Что выражается в языке, мы не можем выразить посредством языка. Предложение показывает логическую форму действительности. Он ее выявляет.»
Отношение к тексту как к отражению мира характерно также для логического позитивизма, развившего идеи Витгенштейна. Например, Рудольф Карнап строит свою картину мира, основываясь на предложениях наблюдения, на так называемых «элементарных предложениях», отражающих, по его мнению, реальные факты.
Суммируя сказанное, можно сказать, что, несмотря на порой значительные различия между отдельными концепциями, которые подпадают под понятие семиотической, репрезентативной герменевтики, общим для них является убеждение в логической конгруэнтности знаков элементам описываемой ими действительности.
Прежде, чем приступить к обсуждению заявленной в заголовке темы, обратим внимание на методологическую трудность, состоящую в том, что дать однозначное определение текста, понимаемого как язык, невозможно. В герменевтике вообще наблюдается дефицит определений, она предпочитает описание и примеры. Поэтому попытаемся раскрыть понятие «текст как язык» при помощи примеров.
Обратимся для этого сначала к работе Михаила Михайловича Бахтина «Слово в романе» (1934/1935). Центральным в ней является вопрос о том, что представляет собой роман как литературный жанр. Ответ Бахтина сводится к возведению обнаруженного им у Достоевского диалогического принципа построения романа в ранг категории, позволяющей выявить сущность романа как особого литературного феномена. С точки зрения развиваемой Бахтиным философии (а не теории) литературы диалог предстает не как стилистическая фигура и не как элемент композиции, а как каркас романа, как организующий принцип, делающий роман единым целым, отличающимся от прочих видов литературных произведений.
Истоки бахтинской идеи диалогического романа можно связать с изменением нарративного характера современного романа, когда изобразительность и солипсический авторский рассказ с его претензией на объективность уступают место субъективному потоку речи литературного персонажа как бы включенного в течение реальной жизни. Ориентация романного слова на речь вызывает эффект присутствия, эффект включенности текста в жизнь, а жизни в текст. Это и подметил Бахтин, новаторство которого состоит в том, что он предлагает понимать роман не как событие литературы, а как событие языка и жизни. Роман, согласно ему, есть «живое слово», слово, включенное в контекст социальной жизни как ответ на ее насущные проблемы. Роман — «это художественно организованное социальное разноречие, иногда разноязычие, и индивидуальная разноголосица» [19] М. Бахтин, Слово в романе // М. Бахтин, Вопросы литературы и эстетика. Москва. 1975.С. 76.
.
Читать дальше