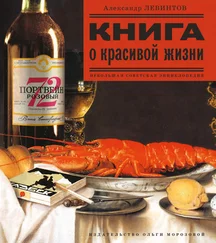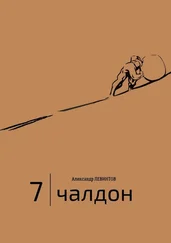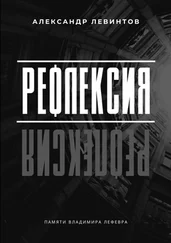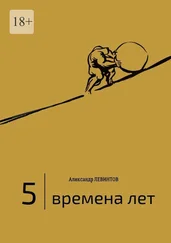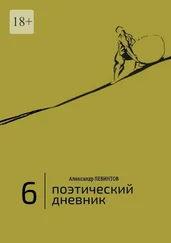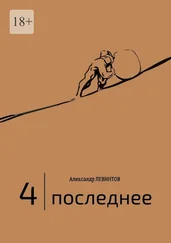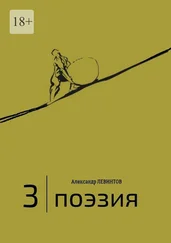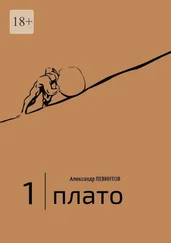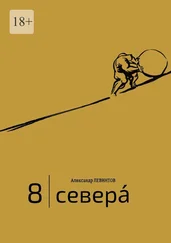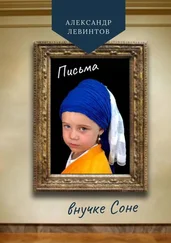Есть у ада такая особенность: в преисподней время останавливается и все тянется, тянется… Действие «Братьев Карамазовых» до момента убийства папашки Карамазова умещается в три дня. Это время расписано с кропотливой точностью поминутных событий. Дотошность работы Достоевского вообще необыкновенна: можно пошагово измерять траектории движения персонажей: вот трактир «Столичный город» – в угловой комнате на втором этаже Иван Карамазов рассказывает страшную утопию «Великого Инквизитора». Здесь же извозили и наоскорбляли папеньку Ильюшечки, а вот и гимназия, из которой мальчик вышел, чтобы увидеть публичный позор и глумление над своим отцом, вот мостик, у которого он кидался камнями в Алешу и своих одноклассников – а мост-то ведет к Храму… вот липовый скверик, прогнувшийся от протекающей под ним в трубе Порусьи, здесь любил сиживать сам Федор Михайлович после того как прошел от дома на набережной до Скотопригоньевского рынка. Ныне здесь ночная дискотека «Тоска зеленая». Впрочем, Скотопригоньевском город братьев Карамазовых мог быть назван и по Козельску, что около Оптиной пустыни: один из оптинских старцев был прототипом Зосимы, а сама пустынь произвела на писателя сильнейшее духовное впечатление.
Достоевский изумительно тщателен не только в хронометрии, но и топографии. Своим мельчайшим, остро отточенным почерком он выводит в ночах и бдениях своего писательства нюансы достоверности, дошедшие до наших дней почти в неприкосновенности. Может, в этом и состоит гений его – уметь увидеть в будничной повседневности значительность вечного, но не в символах и знаках, а непосредственно – из вещей, их размещения, из людей, выцарапывая из пейзажей и портретов нетленную сущность.
В Омском остроге он наблюдает поручика Ильинского, с достоинством и кротостью, спокойно и мужественно отбывающего свой срок за отцеубийство. Уже выйдя на волю, Достоевский узнает, что поручик оправдан, кажется, даже посмертно – так, из глубин неистощимой памяти всплывает образ Мити Карамазова и замысел романа.
Может быть, потому и был и считал себя сам реалистом Федор Михайлович, что ничего не выдумывал и не сочинял, что черпал только из реальности и никогда не покидал ее, даже в самых своих фантастических произведениях.
Эта предельная честность по отношению к реальности и порождает эпохэ – остановку текущего, придание актуальной и злободневной ситуации «здесь и теперь» статуса вечной значительности «вот!». Достоевский, как никто и никогда, открывает значительность момента, его реальную монументальность.
Очень возможно и даже скорей всего я не прав, но мне кажется, что основная, глубинная идея Достоевского, идея, которую он страшился высказывать вслух, но которая и определила его выбор – выбор написания «Жития великого грешника», «Человеческой комедии» атеиста заключается в том… мне и самому страшно сейчас писать это… в том, что человек по природе своей атеистичен, что вера, как и талант, не вменены ему и не есть дар Божий, ибо, если это дар, то передаривать Божий дар тебе другим людям – легко и просто, но зачем?
Человеку ничто не дано даром, но он должен сам себя победить и победить в себе безверие верой в Бога. И чем трудней этот путь к себе и к Богу, тем меньше это похоже на дар, но тем больше оснований у человека делиться этим с другими и самому осуществлять дар, самому дарить, а не получать дары невесть за что.
И всем своим тяжким трудом, всей своей тяжкой жизнью Достоевский шел к Богу, к вере в него и это и есть его творчество, и этот путь – его дар нам.
Дождь сменяется снегом, снег переходит в дождь – и все та же невыразительная дрянь на дворе. Сквозь безликую советскую и постсоветскую обшарпанную серость проступают святыни и реликвии – ими Старая, более, чем тысячелетняя Русса богата и неисчерпаема, как неисчерпаемо соленое море под ней, будто собравшее не соль земли, но слезы людские, обильно пролитые в этих унылых ландшафтах.
И жизнь, и радости жизни, несмотря на непогоду и мразь, теплятся и сверкают красотой, добром и любопытством: а что же там впереди в этой жизни?
В Георгиевском соборе, прихожанами которого были в течение десяти лет Достоевские, при поновлении полов покрыли паркетом ложбинку от входа к чудотворной Старорусской иконе Богоматери. Икона эта появилась тщанием греков на Руси еще в дохристианские времена – в ожидании Крещения Руси. Много было связано с ней чудес и напастей. Ложбинку ту протоптали к ней верующие. В Старой Руссе много такого подспудного – смиренного, но гордого и незыблемого.
Читать дальше
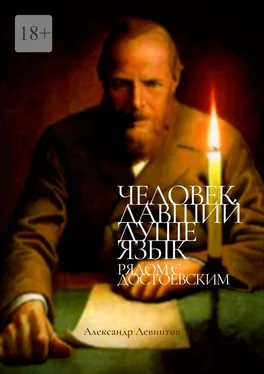
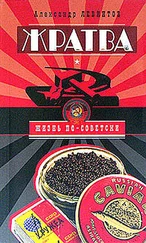
![Александр Левинтов - Книга о вкусной жизни [Небольшая советская энциклопедия]](/books/419542/aleksandr-levintov-kniga-o-vkusnoj-zhizni-nebolsha-thumb.webp)