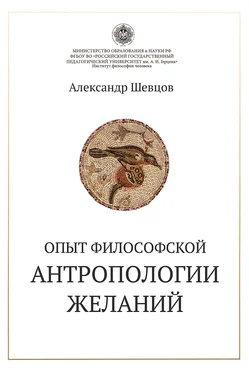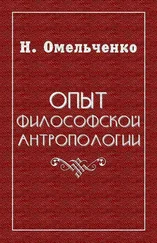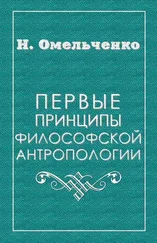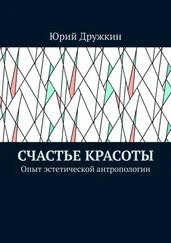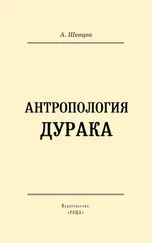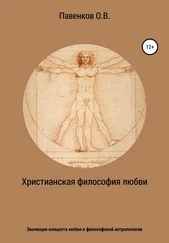При этом у досократиков дюнамис рассматривалась как своего рода «вещь», то есть не была лишь способом рассуждать. Так и Платон видит некую материальность патэ:
«У Платона этическое патэ появляется, по меньшей мере местами, в значении материальности: они появляются в моральных, телесных частях души и присутствуют здесь как результат соединения души с телом (Тимей, 42a – b, 69c)» (Peters F. E. Greek philosophical terms, p. 154).
Однако, рассматривая эти части, необходимо учитывать, что высшая часть души – логистикон – создана Демиургом, и в силу этого она божественна, способна на припоминание, и именно она предмет перевоплощения (Федр 248c–249d, Тимей 42b – d).
Эта часть бессмертна, в то время как две другие части души – гневная и желательная – смертны, поскольку созданы меньшими богами (Тимей 69c – d, Государство X, 611b–612a). В отношении высшей части души у исследователей вроде Петерса прямо звучит термин cognitive arche – познающее начало, обладающее правом этического управления нижними частями. Но в отношении этих нижних частей души неясно, что за познающей силой они обладают.
Возможно, это восприятие – эстезис или айстезис – и удовольствия, которые проливаются от тела до души (Государство IX, 584c). В таком случае можно говорить о силах, об этическом пафосе (Филеб 33d–34a), который расширяется до познавательного пафоса эстезиса.
Однако, как пишет тот же Петерс: «Искушению связать ощущение с гневным началом (thymoeides) в манере Аристотелевской физики эстезиса, надо сопротивляться» (Peters. p. 171).
Тем более плохо связывается с познающей частью души вожделеющее начало (эпитюметикон), располагающееся в брюшной полости. Но его безудержная погоня за телесными удовольствиями временами сдерживается печенью, где гнездятся сны (oneiros) и предвидения (mantike).
У Платона в связи с понятием самодвижущейся души присутствует понятие силы движения, которое рассматривается именно как архэ, источник – arche of kinesis (άρχήν άρα κινήσεων) (Законы X, 895b; Федр 245d).
Однако понять, что такое источник движущей силы, с помощью Платона вряд ли возможно. Для этого надо обратиться к философскому окружению Платона – Сократу и Аристотелю.
Понятие самодвижущегося движения неожиданно связывает мысли Платона – а «Государство» и «Законы», как и все поздние диалоги, безусловно, есть творения самого Платона – с мыслями Сократа. Общепризнано, что в диалогах Платона существуют как бы два Сократа, и взгляды их часто весьма разнятся. Это, вероятно, связано с тем, что ранний Платон старался точно передать то, что говорил Сократ, а с возрастом стал вкладывать в уста Сократа собственные мысли.
Но именно в отношении желаний и сил мысли Платона на удивление совпадают со взглядами Сократа. Особенно ярко это видно в диалоге «Хармид», где понятие самодвижущегося движения завершает рассуждение, в сущности, являющееся уроком самоосознавания и точного рассуждения в рамках сократической школы Заботы о себе .
Нужный нам отрывок начинается с предложения Сократа обратить взор внутрь. В переводе С. Я. Шейнман-Топштейн это звучит так:
«Рассмотрим же в целом все чувства – покажется ли тебе, что какое-то из них является ощущением самого себя и других чувств, само же оно не ощущает ничего из того, что дано ощущать другим чувствам?» (Хармид, 167d).
Перевод не слишком удачен, в русском языке чувства все же означают «душевные движения», и лишь в сочетании «органы чувств» мы отчетливо понимаем, что речь идет о восприятии, но именно о таком, что называется чувствами вроде чувства голода. В оригинале у Платона стоит «айстезис», то есть собственно восприятие. Соответственно, речь идет не о каких-либо переживаниях, а именно о том, могут ли органы восприятия воспринимать сами себя, точнее, может ли осуществляемое ими восприятие быть направлено на восприятие самого себя.
На это следует отрицательный ответ: чувство (восприятие) всегда есть чувство (восприятие) чего-то. Что дает Сократу перейти к рассмотрению желаний. И опять переводчик несколько искажает мысли Платона. Не потому, что плохо его понимает или плохо знает греческий язык. Нет, она даже старается подчеркнуть в переводе, что Сократ говорит о двух разных видах желаний. Однако наши переводчики, как, собственно, и философы в своем большинстве, плохо знают русский язык.
Плохо, конечно, с философской точки зрения. Поскольку в русской философии не была создана феноменология желаний, то не существует и точной привязки русских имен для желаний к различным понятиям о желаниях. Поэтому переводчики вынуждены каждый раз придумывать, как развести разные греческие понятия в русском языке, чтобы подчеркнуть, что речь идет о разных предметах.
Читать дальше