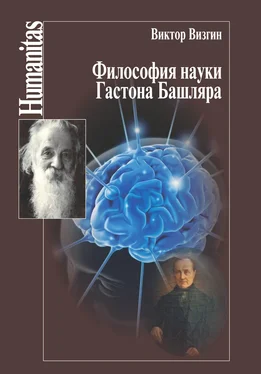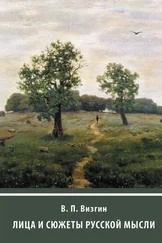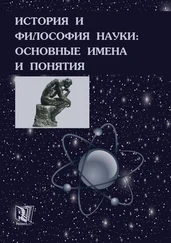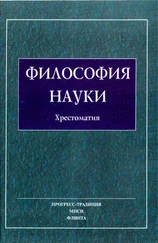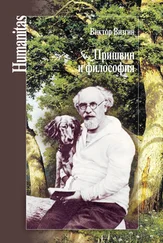Вот кратко жизненный путь его: родился в местечке Бар-сюр-Об 27 июня 1884 г. Окончил местный коллеж, с 1902 г. – репетитор в коллеже Сезанн, а с 1903 по 1905 г. – сверхштатный служащий Почты в г. Ремиремоне. С 1905 по 1907 г. – военная служба конным телеграфистом, с 1907 по 1913 г. – почтовый служащий в Париже. 1912 г. – лиценциат по математике. 1913–1914 гг. – подготовка к экзаменам на инженера. С 1914 по 1919 г. – на передовой Первой мировой войны. Военный крест. 1920 г. – лиценциат по философии. 1922 г. – агреже по философии, преподает философию и продолжает преподавать физику и химию в коллеже Бар-сюр-Об, а в 1927 г. защищает в Сорбонне диссертацию, которой руководят Абель Рей и Леон Брюнсвик. С 1919 по 1930 г. преподает физику и химию в коллеже Бар-сюр-Об, затем профессор философии в Дижоне. А с 1940 по 1954 г. профессор Сорбонны (кафедра истории и философии науки) и одновременно директор Института истории науки. В 1951 г. получает орден Почетного легиона, в 1954 г. – почетный профессор Сорбонны, в 1961 г. – почетная Гран При в области литературы. Умер 16 октября 1962 г. За это время Башляром создано около 30 книг, причем объем печатной продукции почти симметрично делится между эпистемологией и теорией воображения и поэзии. Провинциал и аутсайдер в университетском мире, Башляр своим талантом и трудом завоевал репутацию первого эпистемолога Франции.
* * *
Каждый, кто занимался историей науки, размышлял над ее философскими, методологическими и культурологическими проблемами, наверное, не мог не почувствовать, что те истории, о которых он мечтает, еще не написаны. Интересно, хотя бы в первом приближении, прорефлектировать этот «туманный образ» искомой истории, опираясь на собственный опыт. Даже беглый анализ истории историко-научных исследований показывает изменение того, что в каждую историческую эпоху считается уместным или релевантным для написания истории науки. Говоря о релевантности, мы имеем в виду то, что другими словами можно было бы обозначить как модельный образ истории науки, которым в своей работе руководствуется историк. В состав такого образа входит то, что нормами господствующего в данную эпоху историографического мышления считается обязательным для написания истории науки (например, биографические сведения об ученых, прослеживание генезиса их научных достижений, изложение содержания их новаций, характер преподавания наук, уровень и состояние культуры, экономики, техники и т. п.). Все эти компоненты, как и некоторые другие, входят в состав того, что сообщество историков в данный исторический период считает уместным или даже обязательным для написания истории науки. Почему именно такая характеристика входит в состав стандартного образа истории науки, а другая – нет, об этом сам историк может и не знать. Но если историку-практику как эмпирику позволительно этого и не знать, то историк-теоретик обойтись без этого знания просто не может. Причины, определяющие выбор образцов для написания истории науки, он должен сделать предметом своего теоретического осознания.
Прежде всего, историк-теоретик должен разобраться в структуре этих компонент. Действительно, одни из них могут относиться к причинному уровню исторического анализа, другие, так сказать, к «аккомпанементу» исследуемого историко-научного события. Иными словами, компоненты указанного образа несут специфическую, качественно различную нагрузку в структуре исторической реконструкции.
Одной из задач историка-теоретика является изучение динамики или эволюции таких стандартных образцов истории науки, прослеживание смены или роста числа компонент, входящих в них. Эта задача усложняется уже тем обстоятельством, что одновременно существует несколько типов исторических исследований науки.
Правда, указанную задачу можно выполнить, рассматривая один и тот же тип в диахронии.
Сделав эти предварительные замечания, мы выдвигаем такую гипотезу: нам представляется, что в первом приближении аттрактором эволюции истории науки выступает расширение списка релевантных для исторической реконструкции моментов. В ходе такой эволюции происходит и увеличение числа типов исторического анализа. Расширение зоны релевантности показывает, иными словами, рост связности, «контекстуальности» культурной ткани, на которой как на основе историк «вышивает» свой специфический «узор».
На содержательном уровне анализа направленности эволюции историографической мысли следует отметить своеобразную ее инверсию. Действительно, историки, работавшие в поле притяжения философии логического позитивизма и исследовавшие прежде всего логическую проблематику научного знания, редуцировали науку к ее фундаментальным когнитивным структурам. При этом анализировались основания наук, их аксиоматика и т. п, Иными словами, вектор мышления, изучающего массив научных знаний, фокусировался компактной логической структурой. Такая ориентация исторического анализа сложилась под определенным влиянием самой науки, в частности, научной революции начала XX века. Мы имеем в виду прежде всего теорию относительности с ее парадоксальным, но оказавшимся чрезвычайно плодотворным проблематизированием базовых понятий механики, а также и квантовую механику с ее еще более революционным подходом к физической реальности. Именно этот теоретический фундаментализм во многом и задал тот образ истории науки, который стал складываться в середине XX века.
Читать дальше