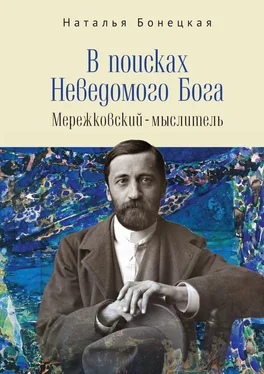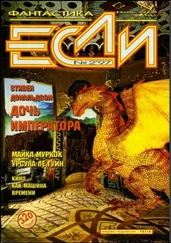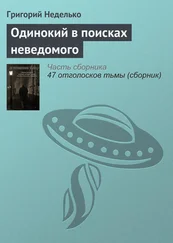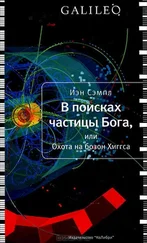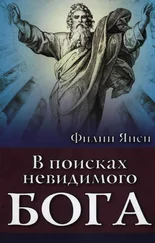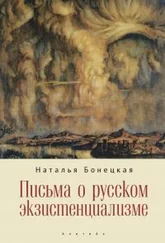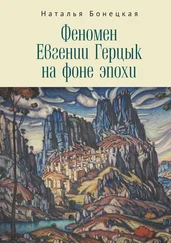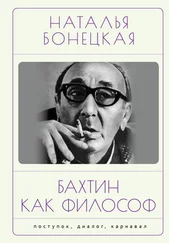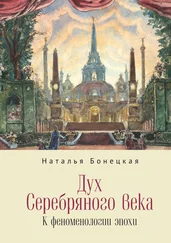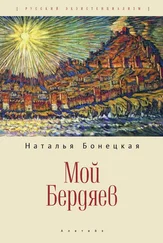И вот еще одно маленькое, но важнейшее добавление к существу моего утверждения: Мережковский – автор не для всех, однако – для всякого.А именно: чтение его текстов не только расширяет «я» читателя, но и помогает ему в великом деле самопознания. Можно тотчас же запротестовать: а почему, собственно, я познаю себя, прикасаясь к опыту Толстого? или католических мистиков? или Плиния Младшего и пр.? Православный пурист скажет: самопознание – это ведение собственных грехов, а какое мне дело до грехов Ницше или Раскольникова, тем более если они представлены Мережковским в качестве добродетелей? Но я исхожу из того, что все субъекты, живые и усопшие, бесчисленные как песок морской, – все причастны единому всечеловеческому «Я»: об этом «Я» философствовал Фихте, его же, великое «Я», разумели русские мыслители в связи с Софией – Церковью. Так вот, приобщение к чужому я-опыту, к экзистенции другого, индуцирует, как один магнит индуцирует другой, мою экзистенцию, актуализирует мое собственное «я». Встреча с другим субъектом пробуждает меня как субъекта. Но такое пробуждение в человеке его «я» – первый, и при этом важнейший момент самопознания. И православному пуристу я скажу: для ведения своих страстей человеку потребен субъект этого ведения, пребывающая вне этих аффектов экзистенциальная точка. Если ее нет или на в состоянии латентном, никакое самопознание и покаяние невозможны. Но экзистенциальный центр, как и всякий жизненно важный член, орган человека, надо культивировать, развивать – хотя бы будить! Это и делает своими, в сущности, исповедальными текстами один из отцов Серебряного века – основатель русской философской антропологии и герменевтики, «новый богослов», романист, поэт и публицист (может, и кто-нибудь еще) Дмитрий Сергеевич Мережковский.
В Приложении к основному корпусу книги помещено мое исследование «Мережковский и пути постницшевского христианства»: там обозначено место Мережковского в кругу русских мыслителей-ницшеанцев.
Сентябрь 2016 г., Кубинка (дача «Кактус»)
Д. С. Мережковский: Герменевтика и экзегетика [1] Глава впервые опубликована в: Вопросы философии, 2012, № 11, с. 97–113.
Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865–1941) не принято относить к сонму философов Серебряного века. В этом есть свой резон: ведь и проницательнейшие из его современников наделяли его лишь расплывчатым именованием «литератор». В 1900-е годы Мережковский уже прославился не только благодаря своим литературоведческим штудиям (прежде всего двухтомным исследованием «Л. Толстой и Достоевский», 1900–1902 гг), но и романной трилогией о Христе и Антихристе («Юлиан Отступник», «Воскресшие боги», «Петр и Алексей»); он издал стихотворный сборник и разработал основы «нового религиозного сознания». Такая писательская многогранность возбуждала недоумение, подталкивала к раздумьям. Но на заре Серебряного века, когда еще не пришло время для полноценной рефлексии, даже и Н. Бердяев – весьма, как правило, точный в оценке коллег, мог лишь констатировать, что Мережковский, этот «слишком литератор», – «замечательнейший у нас литературный критик» и «своеобразный художник-мыслитель» [2] Бердяев Н.А. О новом религиозном сознании // Он же. О русских классиках. М., 1993, с. 225, 224,229.
. При «открытии» сочинений Мережковского в 1900-х гг. в России он предстал перед новым читателем именно с ярлыком критика. – Об идентичности творчества Мережковского более напряженно, чем Бердяев, размышлял Андрей Белый. «Определите-ка его, кто он: критик, поэт, мистик, историк? То, другое и третье или ни то, ни другое, ни третье? Но тогда кто же он? Кто Мережковский?» – со страстью вопрошал уже в 1908 г. Белый. Ведь «лирика Мережковского – не лирика только, критика – вовсе не критика, романы – не романы» [3] Андрей Белый. Мережковский. – В изд.: Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994, с. 376.
. Белый глубже Бердяева понял Мережковского, увидев в нем «нечто неразложимое» на привычные творческие методы: «Он специалист без специальности. Вернее, <���…> еще не родилась практика в пределах этой специальности. И оттого-то странным светом окрашено творчество Мережковского» [4] Там же, с. 381, 377
.
Удивление Белого перед загадкой Мережковского побуждает, по Платону, к поискам. «Для уяснения его [Мережковского] деятельности приходится придумать какую-то форму творчества, не проявившуюся в нашу эпоху» [5] Андрей Белый. Мережковский. – В изд.: Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994, с. 381.
; но нам, кажется, уже не нужно гадать и придумывать. В нашу эпоху уже «проявилась» – уже обрела самосознание такая старинная форма философского мышления, как герменевтика.Более того, в трудах М. Хайдеггера, а в особенности его ученика и последователя Х.Г. Гадамера герменевтика в XX в. получила едва ли не универсально-философский статус. «Классическая дисциплина, занимающаяся искусством понимания текстов» [6] Гадамер Х.Г. Истина и метод. М., 1988, с. 215.
, герменевтика в ее проблематике, по словам Гадамера, «относится к совокупности всего разумного» – ко всей области знания: ведь мир, с которым человек имеет дело, «не бывает первозданным миром первого дня» [7] Надамер Х.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991, с. 14.
, – он всегда в какой-то мере осмыслен и описан, а потому является текстом в широком смысле. Мы не станем поднимать здесь трудных проблем герменевтики, – например, размышлять о возможности ее обобщения до всеобщей теории познания, приложимой и к сфере естественнонаучного опыта [8] Таким обобщением была борьба Хайдеггера с “фетишизацией «чистого восприятия»”. Полемизируя со своим учителем Э. Гуссерлем, он обосновал, что “первичным феноменом всегда является видение нечто в качестве нечто, а отнюдь не чувственное восприятие. <���…> Всякое видение есть уже «постижение нечто…»” (См.: Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного, с. 127).
. Наша задача проще, уже – попробовать применить понятие герменевтики для осмысления русской философии XX в. Герменевтика для нас – наука о духе, о познании неких текстов – текстов глубоких, чужих и таинственных.
Читать дальше