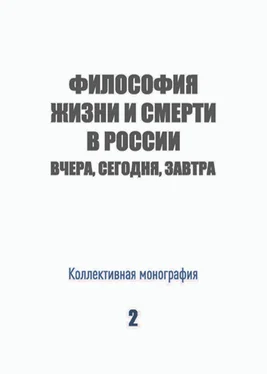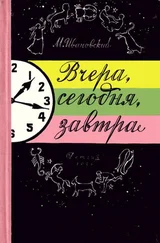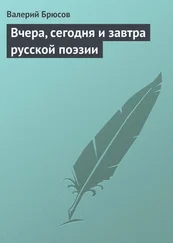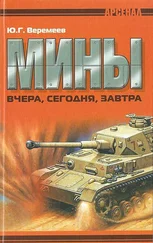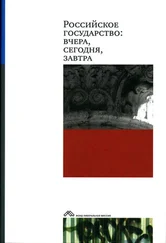Образ и смерть.
Ты все еще хочешь восстать со своего кресла? Ты хочешь опереться на знания, как будто твои знания – некая незыблемая подпорка? Увы, это всего лишь костыли. И ты рушишься внезапно. Падаешь, летишь вместе со всей своей логикой вверх тормашками в ад, не понимая – почему, за что. А просто так. Быть может, тебя подводит сейчас даже не разум, а нечто неизмеримо большее?
Это эссе было бы проще начать с ответов, но для художника идеи не так важны. У великого режиссера Ларса фон Триера как-то спросили по поводу его последнего фильма «Дом, который построил Джек» – «Вы видите художника своего рода преступником, а каждого преступника как художника?» И фон Триер отвечал: «Да, можно воспринимать фильм и в таком ключе, что я – главное действующее лицо, а искусство заменяет убийство. Но я не думаю, что это является сутью, – да, это забавно, – но это совсем не важно».
Но почему?
Потому что для художника важно не то, о чем он говорит, а то «как» он об этом говорит.
А ответ, с которого можно было бы начать, прост. И известен давно. Радикальнее всего его формулирует, наверное, Башляр:
«Смерть – это прежде всего образ, образом она и остается».
Taedium vitae или иммортологическое безумие наших дней
Варава В. В. [13] Доктор философских наук, профессор Департамента гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ.
Мы стареем, потому что мы живые.
А. Платонов
Но я человек, мне бессмертья не надо.
Арс. Тарковский
После заката советской идеологии возобновились многие традиционные философские дискурсы, в том числе и дискурс смерти. Нельзя сказать, что в советский период было наложено полное табу на танатологическую проблематику. Правильнее говорить об особом советском отношении к смерти, в котором произошло не столько вытеснение смерти из контента жизни и рефлексии, сколько свершилась какая-то невероятная трансформация ее традиционного образа и способов ее осмысления. Советская – это отдельная тема.
Сейчас очевидно одно: современный интерес к теме смерти в различных аспектах, кроме философского, превышает все мыслимые и разумные пределы. Этот танатологический ренессанс, которым отмечена современная культура, является перверсивной реакцией на умолчание смерти в ту же советскую эпоху. Результат один: или мы слишком много думаем и говорим о смерти, или слишком мало – в любом случае мы думаем и говорим не так. А почему не так? А потому, что, как было сказано выше, в этом современном разговоре, как правило, отсутствует философия.
И поэтому в исследовательском пространстве наблюдается явная диспропорция между эмпирической танатологией и собственно философией. В гуще эмпирических исследований, среди которых социологические, культурно-антропологические, историко-археологические, психологические, психотерапевтические, патологоанатомические, биомедицинские и т. д., лидирующими оказываются иммортологические проекты. Можно сказать, что нехватка философии порождает иммортологические утопии. И чем острее эта нехватка, тем обильнее иммортологические фантазии.
К тому же, современный чрезвычайно развитый гедонизм, окрыленный биотехнологическими «достижениями», порождает уже нечто, похожее не иммортологическое безумие или иммортологический невроз. Есть то, что можно назвать нормальной медициной, целью которой всегда была помощь человеку в лечении различных заболеваний, в профилактике здоровья, в том числе и в возможном продлении жизни. Но нормальная медицина никогда не ставит перед собой абсурдных целей, например, абсолютного здоровья и вечной молодости и уж тем более физического бессмертия.
Никто не хочет стареть, болеть и умирать, и это естественно, но противоестественно, прежде всего с моральной точки, обратное. Забегая немного вперед, можно сказать, что как бы человек не ценил молодость, здоровье и долгую жизнь, эти вещи, взятые в аспекте вечности, то есть вечная молодость, вечное здоровье и вечная жизнь были бы скорее проклятием, нежели благом. Есть какая-то абсолютно непостижимая, но высшая трагическая мудрость в том, чтобы человек старел, болел и умирал. В этом круге его страданий свершается нечто бесконечно значимое для его духовного бытия. И желание обратного означает отказ от человеческого. В этом плане современную иммортологию можно рассматривать как коллективное безумие, в основе которого – экзистенциальная исчерпанность и усталость быть человеком. Либо человек найдет новый витальный импульс для своего смертного бытия, либо он исчезнет.
Читать дальше