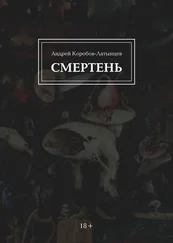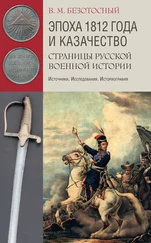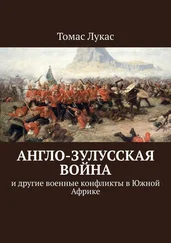К вопросу о необходимости и смысле войны Соловьев вернется на поздних этапах своего творчества, а именно в знаменитом своем тексте «Три разговора о войне, прогрессе, и конце всемирной истории», и особенно в приложении к этим трем разговорам – Краткой повести об Антихристе. Причем в предисловии Соловьев напишет, что прекращение войны как таковой вообще он считает невозможным «раньше окончательной катастрофы» [122] Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/s/solowxew_wladimir_sergeewich/text_1900_tri_razgovora.shtml
.
В первом же из трех разговоров сталкиваются князь (толстовец) и некий г-н Z, который по ходу всех разговоров будет в немалой степени выражать точку зрения самого Соловьева. Г-н Z говорит, что «война не есть безусловное зло и что мир не есть безусловное добро, или, говоря проще, что возможна и бывает хорошая война, возможен бывает и дурной мир» [123] Там же.
. Князь, разумеется, с ним не согласен. Начинается же разговор с вопроса о том, прекратится ли когда-нибудь война в человечестве или нет. Естественно, в споре находятся и прогрессисты, которые считают, что рано или поздно война будет искоренена в человечестве по ходу его неминуемого прогресса, и милитаристы (условно), которые считают, что окончательное искоренение войны из истории человечества, пока эта история не окончилась, невозможно, более того, война иной раз может служить даже благим целям. Этой последней точки зрения придерживался и сам Соловьев, что он предельно ясно выразил в статье «Смысл войны».
Соловьевские «Три разговора» представляют собой полемику автора со Львом Толстым и толстовцами и их идеей непротивления злу силой. Соловьев для иллюстрации своего положения о том, что война не может быть искоренена из истории человечества до тех пор, пока эта история не подойдет к завершению, прилагает к трем своим разговорам краткую повесть об Антихристе, в которой как раз изображается последняя война в истории и которая оканчивается встречей двух армий.
Читатель, поверхностно знакомый с русской философией, непременно заметит в разговоре ошибку Соловьева, а именно, что он ждал угрозы с Востока, страшился панмонголизма, тогда как в действительности в XXI веке «главную угрозу» представляет исламский терроризм и американский милитаризм. Однако Соловьев предупреждал, что «успех панмонголизма будет заранее облегчен тою упорною и изнурительною борьбою, которую некоторым европейским государствам придется выдержать против пробудившегося Ислама в Западной Азии, Северной и Средней Африке». Поэтому заявлять об ошибочности предсказаний философа пока еще слишком рано.
Соловьев ожидал русско-японскую войну, в милитаристском подъеме Японии он видел большую опасность для России, даже считал, что грядущие военные события станут предтечей антихриста. Еще в 1890 году в статье «Китай и Европа» Соловьев главную роль агрессора отводил Китаю, однако уже в «Трех разговорах» изображает японцев главными агрессорами и создателями «дикого слова» панмонголизм. Между статьей 1890 года и последней работой Соловьева случилась японо-китайская война (1894–1895). Исследователи пишут, что Соловьев пренебрег политической реальностью ради историософской, утверждал, что окончание истории сойдется с ее началом, и последнее слово, якобы, должно быть за Китаем. Но Япония разгромила Китай и ясно обозначила себя в регионе как нового коварного и опасного гегемона.
К миротворческой инициативе российского императора философ отнесся скептически. Николай Второй призывал к всеобщему разоружению, Соловьев же считал, что этот внешний гуманизм никак не подкреплен внутренним духовным деланием, ему не предшествуют внутренние преобразования в самой России, и потому у российского монарха нет права на такие призывы.
В последнем своем труде Соловьев изображает антихриста именно миротворцем, великим гуманистом, который подкупает человечество обещанием всеобщего мира. Эти обещания всеобщего мира на деле должны привести к всеобщему рабству у дьявола, и альтернатива этому, по Соловьеву, лишь одна – окончательная катастрофа, последняя война. Историософскими прозрениями об этой последней войне были наполнены последние творческие годы философа.
Первая мировая война поистине стала и войной национальных философий. Русские философы бросились в бой в первые же дни войны. Количество статей в печати и докладов на собраниях Московского религиозно-философского общества им. В. С. Соловьева исчисляется десятками. К ним прибавьте еще сотни исследовательских статей, кандидатских и докторских диссертаций по этой теме [124] Одно только перечисление работ, посвященных теме восприятия Первой мировой войны русскими философами, займет не одну страницу. Вот только некоторые из них: Дзема А. И. Начало Первой мировой войны в восприятии русских религиозных философов Е. Н. Трубецкого, Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского, Ф. А, Степуна // Social-Humanitarian Review. 1/2016. С. 30–33; Куманьков А. Д. С. Л. Франк в поисках духовного смысла Великой войны // Философские науки, 2017. № 3. С. 38–52; Треушников И. А. Смысл войны (диалог представителей философии всеединства периода первой мировой войны) // Соловьевские исследования. № 1 (49). 2016, С. 76–84; Одесский М. П. Первая мировая война в публицистике Н. А. Бердяева // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2015. № 5 (5). С. 101–110; Милованов А. И. Первая мировая война в восприятии российских религиозных мыслителей: 1914 – февраль 1917 г. Тема диссертации и автореферата по ВАК 07.00.02, кандидат исторических наук. Саратов, 1999; Манеев И. В. Военно-философские идеи русского зарубежья первой половины XX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., 2011; Сидорин В. В. Русские философы о смысле войны // Соловьевские исследования. № 1(49). 2016. С. 114–122; Baldwin T. Philosophy and the first World War // The Cambridge History of Philosophy 1870–1945. Cambridge University Press. 2008. P. 365–383.
. Вяч. Иванов, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, В. Ф. Эрн, И. А. Ильин, П. А. Флоренский и многие другие русские мыслители очень живо откликнулись на событие войны.
Читать дальше
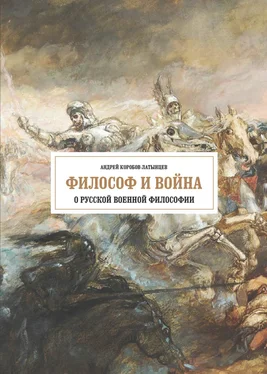






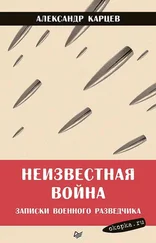
![Фредерик Браун - Конец великой войны [По страницам военной фантастики]](/books/414041/frederik-braun-konec-velikoj-vojny-po-stranicam-v-thumb.webp)
![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/431079/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st-thumb.webp)