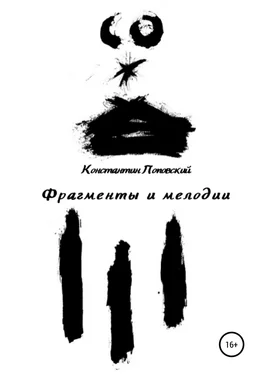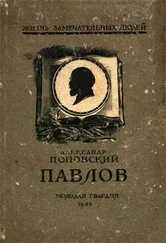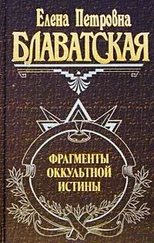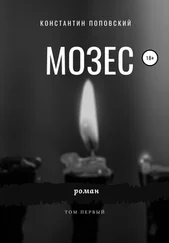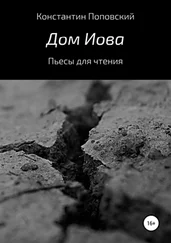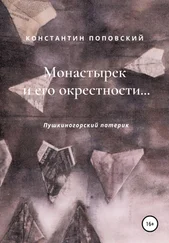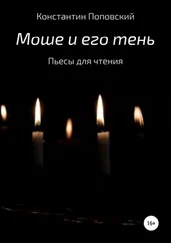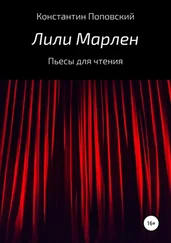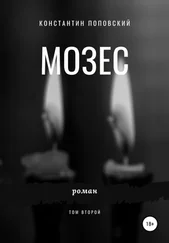НАЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ. Сделать из необходимости служанку и помыкать ею, как только вздумается (потому что – отчего же и не помыкать, раз у нее такой дурной характер!) – вот, пожалуй, единственное назначение всякой философии, с которым она великолепно справляется. – Она возмущена? Ее задача совсем другая – познавать и подчиняться? – Ну, это-то еще никогда ей не удавалось.
ПОДЗЕМНЫЕ ТАНЦЫ. Что уж греха таить, – я принадлежу к подпольному народцу, изнывающему под бременем стыда, малочисленному народцу, пролезающему во все щели и даже проходящему, в случае надобности, сквозь стены. У нас все не так, как у людей. Мы молчим, когда следует говорить и говорим, когда самое лучшее это прикусить язык. В наших карманах всегда можно отыскать какую-нибудь дрянь: у одного – дохлая крыса, у другого – прошлогодний снег или рецепт мышьяка. Мы поем на похоронах и свистим на торжественных сборищах, – не достаточно ли одного этого, чтобы нас ненавидели и гнали прочь? Чтобы обмануть людей и избежать наказания, мы придумали множество истин, которые гипнотизируют их словно взгляд удава. Мы раскрасили горизонты в чудесные цвета и объявили, что владеем тайной, позволяющей вернуть себе вечную молодость. Мы – изобретатели языка, на котором говорят все от мала до велика; сирены, зазывающие неосторожных путников волшебными песнопениями. Днем мы ходим среди людей, и стыд гложет нас за наши нелепые россказни. Но ночью… Ночью совсем другое дело. Ночью мы возвращаемся в свои подземные убежища, чтобы плясать там дикие танцы вокруг священного костра, в котором горят дневные истины. Лишь это мрачное пламя вселяет в нас надежду и дает уверенность, что наш стыд не вечен. – Отчего бы нам не начать говорить правду? – Этот вопрос можно услышать только от того, кто никогда не кружил вместе с нами, озаренный багровыми всполохами, подбрасывая в огонь все новые и новые истины.
ЛОВЦЫ ИСТИН. Ловцы истин выходят рано утром, чтобы вернуться под вечер с сумкам, набитыми добычей. Всю ночь они трудятся в своих мастерских, чтобы на следующий день выставить на всеобщее обозрение еще не просохшие чучела, набитые ватой и травой. О, они не обманывают нас – это действительно истины, которые можно трогать руками и изучать их оперение и окраску. Какое трогательное и, вместе с тем, поучительное зрелище: его так любят дети и домашние хозяйки! Ловцы истин говорят: наша работа – самая важная. Что толку от истин, живущих на свободе? Разве они даются нам в руки? Теперь же мы можем исследовать и делать выводы. – Что ж, может и так. Но гуляя под сводами музея, где хранится собрание навеки умолкнувших истин, почему-то трудно отделаться от мысли, что единственно стоящим делом на этой земле может быть только поиск живой воды, которая смогла бы вернуть жизнь этим потертым и пыльным чучелам. Как было бы чудесно, если бы в один прекрасный день все они разлетелись и разбежались бы в разные стороны, на всю оставшуюся жизнь погрузив в великую задумчивость всех профессиональных истиноловов… – Но, тш-ш… Как бы эта маленькая фантазия сама не очутилась здесь, за какой-нибудь из этих застекленных витрин.
Иногда мне хочется, чтобы мне приснился какой-нибудь Апейрон или Перводвигатель, или что-нибудь в этом роде; какая-нибудь понятная непонятность, дивная игрушка, вмещающая и мир, и судьбу; где все элементы, образы, вещи, идеи и поступки могли бы уместиться на моем столе, где царил бы закон, подобный чуду, и свобода мирно соседствовала бы с необходимостью так же просто, как жизнь со смертью. Я бы хотел видеть себя гуляющим по эти пространствам, садам и лабиринтам, в которых невозможно заблудиться, – себя, навсегда оставившим заботы о будущем и утратившим память о прошлом. Одно лишь тревожит меня: что как этот «апейрон» и в самом деле окажется правдой? Не свободным вымыслом, танцующим среди звезд свой легкий танец, а тяжелым гулом скатывающихся с горной вершины камней? – Тогда конец снам! – Не в этой ли тревоге причина нашего по-прежнему настороженного отношения к метафизике?
Мы и сейчас – словно дикари у костра, пугливо всматривающиеся в темноту, вздрагивающие всякий раз от крика ночной птицы или порыва ветра. В лесу, где-то совсем рядом, живет загадочное чудовище, лесной Левиафан, грозящий погибелью всему живому. С детства мы слышали рассказы о нем от наших нянек и родителей, которые, так же как и мы, жались у костра, прислушиваясь к ночным шорохам и очерчивая вокруг себя магические круги. Мы помним наизусть все их рассказы и предостережения. Правда, чудовища никто не видел, – но разве наш древний страх – не верная порука тому, что оно действительно существует? Стоит упасть на землю сумеркам, как мы торопимся зажечь огонь, чтобы под его охраной рассказывать друг другу наши страшные истории. И – странное дело – эти рассказы, пожалуй, даже успокаивают нас. Так, словно улавливаемый словами до того таинственный зверь, начинает обретать какой-то зримый образ, – а ведь это, пожалуй, совсем не так страшно, как полная неизвестность. Может быть, со временем мы сумеем даже приручить его? Как знать? Правда, рассказывают, что он убивает взглядом (но значит, у него есть глаза). Его туловище утыкано тысячью ядовитых игл (выходит, он похож на дикобраза или ежа). Он увенчан рогом, который простирается до самых звезд (что ж, мы ведь и прежде встречались с носорогом и остались живы). Зверь ревет, словно сто раненных слонов (можно заткнуть уши) и извергает пламя (не такое ли, разве, как у нашего костра?). В довершение ко всему, он жесток и коварен (вот уж чем нас не удивишь!) Конечно, он опасен, – но и только: мы привыкли к опасностям. Чтобы навсегда привязать его к нашему миру, мы дали зверю священное имя, которое стреножило его не хуже хорошего ремня из первоклассной кожи. Теперь мы боимся его уже не тем страхом, что прежде; ведь вместе с именем приходит определенность, а из нее рождается уверенность… Отчего же каждый вечер, когда спускаются на землю сумерки и в небе загораются звезды, мы, как и вчера, как и тысячу лет назад, спешим поскорее разжечь свой спасительный огонь, в колеблющемся кругу которого мы продолжаем торопливо плести свои сети из слов и имен, пугливо вслушиваясь в подступающую к нам ночь?
Читать дальше