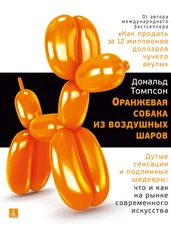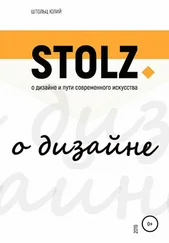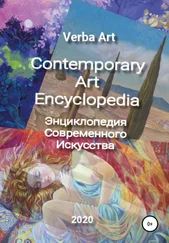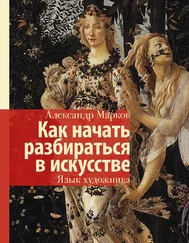1 ...7 8 9 11 12 13 ...83 Кроме сильной и слабой программы, встречаются странные попытки заменить научное мышление бытовым, скажем, когда всемирно известного математика упрекают, что он неправильно посчитал сдачу в магазине, хотя профессия считать сдачу называется «бухгалтер», а не «математик», или когда, наоборот, безраздельно доверяют математику, даже если он или она начинает рассуждать о медицине. Всё это просто подмена, не имеющая отношения к современному развитию социально-гуманитарного знания.
Социально-гуманитарным знанием я называю то, что в английском Просвещении называлось moral sciences, иначе говоря, науки о человеческом поведении и о человеческом восприятии в том числе естественных явлений, и что исторически в некоторый момент было объединено с humanities, науками о человеческом, человеческими делами. Такое употребление слова «моральный» отчасти обязано традиционному названию «Moralia» для сочинений Плутарха, посвященных самым разным темам, но несущих в себе невероятную человеческую любознательность, «моральное», заинтересованное отношение в том, чтобы разобраться в предмете.
Такое объединение двух русл знаний состоялось в программе «наук о духе» (Geistwissenschaften) Вильгельма Дильтея, который противопоставил правилам верификации в естественных науках правила интерпретации в гуманитарных науках, доказывая, что они не меньше заслуживают быть университетскими науками. Более того, «науки о духе» и доказывают развитое мышление, способное уточнять нюансы и сами условия нашего познания. Как мы пришли от этой программы к современному состоянию социально-гуманитарного знания — отдельный большой вопрос, а пока что нас интересует один практический момент: почему теоретики искусства сейчас пишут в основном по-английски, хотя есть те, кто пишет по- французски, на хинди или суахили, или любом другом языке.
Конечно, мы не можем сейчас рассудить обо всех обстоятельствах, при которых социально-гуманитарное знание сделалось по преимуществу англоязычным. Обращу внимание только на одно: в современном мире есть социология на французском и на немецком, местные школы, объясняющие опыт, накопленный этими странами, который может быть в чем-то гораздо богаче американского и британского опыта, с учетом пережитого за многие века. Но политология существует только на английском — конечно, статьи по политологии пишутся и на русском, и на финском или турецком; но все равно в них остается круг понятий, выработанных на английском языке, причем по результатам определенных споров, например, о том, что такое «правительство» или «справедливость».
Дело в том, что в США была исторически выработана сильная программа политологии, которой не было создано во Франции, при всем ее политическом опыте, отчасти из-за довольно постыдного французского коллаборационизма, который современным французским философам приходится осмыслять как роковую, но поучительную ошибку. Но также были и структурные особенности французской политики, с ее лидерами из ниоткуда, которые не дали ее превратить в науку — какая наука, если Наполеон вдруг может явиться с Корсики и вести себя как корсиканец, если язык политики может быть равно успешно и ам пирной стилизацией, и площадным спором. Во Франции политика не сложилась в единый критический образ науки, а по-прежнему разделена на частные практики, которые хорошо осмысляет французская современная философия, но плохо — французская политология: так, во Франции может стать характеристикой героя романа то, что он читает «Монд» (консервативную газету) или «Фигаро» (либерально-социалистическую газету), тогда как в Америке если человек читает «Нью-Йорк Таймс», это самое большее скажет о его социальном положении (с телеканалами, правда, сложнее).
Таким образом, во Франции политическое утверждающее себя действие оказывается погружено в практику пользования газетами, и возможна только слабая программа, наблюдающая за тем, как газеты влияют на общество. Поэтому французские левые критики марксизма, как грек по происхождению Корнелиус Касториадис, и говорят, что в современной Франции классовая борьба сменилась апатией: политики ничем не примечательны, что мир рынка и мир дискуссии действуют в стороне друг от друга, и политик остается мелькать на страницах газет, не становясь лидером, изобретателем и первооткрывателем. Касториадис скептично относится и к современному искусству, в отличие от Алена Бадью, который считает, что мир дискуссий становится непредсказуем и искусству еще будет что сказать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
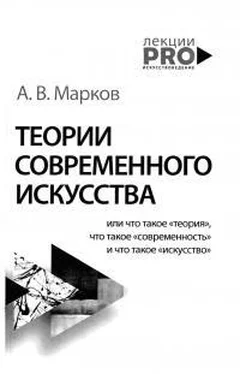

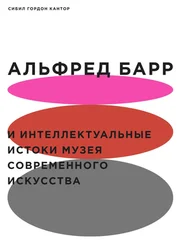
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)