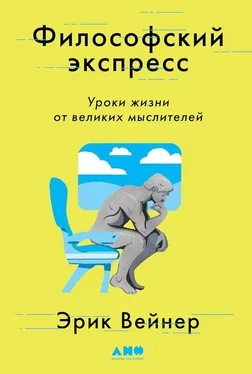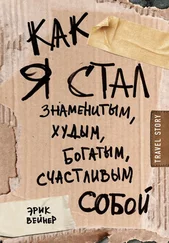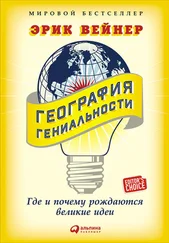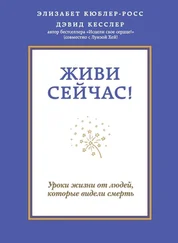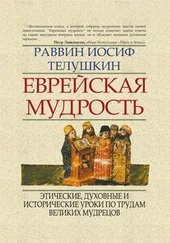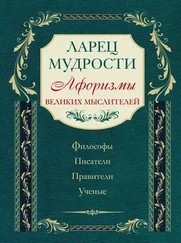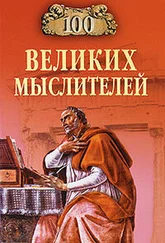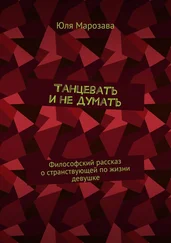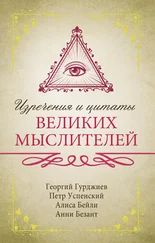Услышав о голоде в Китае, Вейль разрыдалась. Это произвело глубокое впечатление на ее коллегу-философа Симону де Бовуар. «Я завидовала ей — ведь ее сердце могло биться за весь мир» [102] Simone de Beauvoir, Memoirs of a Dutiful Daughter (New York: HarperCollins, 1958), 239.
, — вспоминала она. Две Симоны, два гиганта французской философии XX века, две женщины в среде, которая была и во многом до сих пор остается мужской, встретились в 1928 году во внутреннем дворе Сорбонны. Особо они не поладили.
Радикальная эмпатия Вейль позволяет объяснить ее радикальные взгляды на внимание. Она не считала его механизмом или техникой. Внимание для нее было моральной добродетелью, такой же, как, скажем, мужество или справедливость, требующей такой же самоотверженности. Внимание не способ стать продуктивнее, лучше как сотрудник или как родитель. Быть внимательным нужно потому, что это правильно, нравственно верно.
В своей самой мощной и щедрой ипостаси внимание именуется любовью. Внимание — это любовь. Любовь — это внимание. Это одно и то же. «Тем, кто несчастлив, в этом мире нужно лишь одно: те, кто смогут дарить им свое внимание», — пишет Вейль. Лишь уделяя кому-то свое внимание, полностью, не рассчитывая на ответную услугу, мы приобщаемся к этой «редчайшей и чистейшей форме щедрости». Именно поэтому так больно, когда во внимании отказывает родитель или возлюбленный. Мы понимаем, что за отказом во внимании стоит отказ в любви.
В конце концов нам и дать-то нечего, кроме внимания. Все прочее — деньги, похвала, советы — все это лишь его слабая замена. И даже время. Уделять кому-либо время, но не внимание — самое бессердечное мошенничество в мире. Дети понимают это инстинктивно. Притворное внимание они чувствуют за версту.
Чистое внимание — это нелегко, соглашается Вейль: «Дарить внимание страждущему — умение очень редкое и сложное, почти чудо; да просто чудо и есть». Первое, что хочется сделать при столкновении с чужим страданием, — отвернуться. Найти причину. Мы ведь заняты. Мне случалось при виде честных людей, собирающих деньги на безусловно благое дело, все же переходить на другую сторону улицы. Видя такую женщину — в руке планшет, на лице улыбка, — я весь сжимаюсь, стыдясь не своей жадности, а скорее своей неспособности оказать внимание, взглянуть боли в лицо.
А ведь требуется не так много, замечает Вейль. Облегчить душу человека и даже изменить его жизнь может простой вопрос: «Что у тебя на сердце?» Эти слова так сильны, говорит Вейль, потому что они признают страдальца «не только как еще один экспонат в коллекции или как представителя категории „неудачников“, а просто как человека, такого же, как мы, но однажды помеченного знаком горя».
Недалеко от моего дома в городе Силвер-Спринг, штат Мэриленд, есть оживленный перекресток. И почти всегда, в особенности же по воскресеньям, на разделительном островке посреди перекрестка стоит пожилой афроамериканец по имени Чип. Тщедушное тело опирается на трость, в одной руке — пластиковый стаканчик, в другой — картонка. На картонке написано просто «Чип». Без истории. Без жалостливого текста. Имя — и все.
Сейчас я замечаю Чипа, но так было не всегда. Первой мне его показала дочь, которой было тогда десять лет. И теперь всякий раз, когда мы проезжаем этот перекресток, она кричит: «А вон Чип!» — и требует, чтобы я дал ему доллар-другой.
Подлинное внимание состоит в том, чтобы не просто заметить Другого, но и признать его, выказать ему уважение. Важнее всего это умение в медицине. Замученный работой врач скорой помощи заметит, что пациенту больно, снимет боль и устранит ее причину, но внимания пациенту не даст. Пациент — осознает он это или нет — чувствует себя обманутым.
Моя мама недовольна своим кардиологом. Он профессионал, окончил лучшие учебные заведения. Но внимание — не его конек. «У меня такое чувство, что я могу перед ним упасть замертво, а ему будет все равно», — сказала мне как-то мама. И теперь она ищет другого кардиолога. Повнимательнее.
* * *
Я в Лондоне, на вокзале Сент-Панкрас. Тут шикарно. Все сверкает, переливается и обещает сладкую жизнь. Этот вокзал, как и многие другие, совмещает в себе функциональность и эстетику. Mi-usine, mi-palais, «полуфабрика, полудворец» [103] Альфред Мейер (Alfred Meyer). Цит. по: Schivelbusch, The Railway Journey, 189.
. По примеру Хрустального дворца, в котором с успехом прошла Всемирная выставка 1851 года, во многих городах главное помещение железнодорожных станций начали отделывать сталью и стеклом, а фронтоны — граненым камнем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу