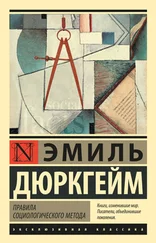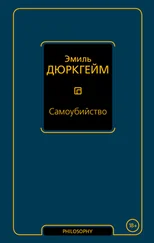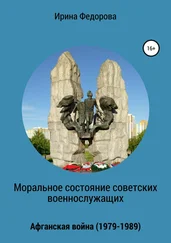Но этот онтологический смысл понятия «рациональность» у Дюркгейма не единственный. Во втором смысле онтологическая рациональность в его интерпретации означает разного рода рациональные факторы человеческого и социального поведения, такие как интеллект, рефлексия, логика, ценности разума, разумные мотивы и т. п. В отличие от предыдущей разновидности, это, с его точки зрения, «не объективная, имманентная, данная рациональность; это идеальная рациональность, которая является нашим творением, которую мы в разных дозах вводим в наше поведение» [54]. Характеризуя эту разновидность рациональности применительно к морали и, шире, социальной реальности в целом, Дюркгейм говорил: «…Если судить с фактической точки зрения, то мы никоим образом не можем констатировать, что рефлексия когда-либо рассматривалась и даже сегодня рассматривается в качестве необходимого фактора морали. …Конечно, философский ум делает, что может, чтобы ее осмыслить; но он всегда приходит к этому неполным и усеченным образом, и прекрасно это осознает. Во всяком случае, громадное большинство субъектов ограничивается пассивным принятием господствующей морали, такой как она есть, не задавая ей никаких вопросов и даже ее не понимая» [55].
Имея в виду этот второй смысл понятия рационального у Дюркгейма, можно сделать вывод, что в данном случае он рационалистом не был. Он утверждал, что «роль, которую в нашей моральной жизни играет логическая потребность…, достаточно ограничена», а «теория, основанная на противоположном постулате» представлялась ему «несколько рискованной» [56].
В отличие от просветителей, Дюркгейм не считал, что разум, рациональное начало в различных его проявлениях, лежат в основе социального существования. И дело не в том, что он оказался «рационалистом, очарованным иррационализмом», как утверждает Йоас, а в том, что всегда, с самого начала и до конца своей научной деятельности он признавал огромное значение разного рода иррациональных факторов индивидуального и социального поведения: коллективных верований, чувств, страстей, «коллективного сознания» (понимаемого как «совокупность верований и чувств»), «коллективных представлений», «коллективного возбуждения», сакрального, традиций, обычаев, ритуалов и т. д. Это относится и к его ранним классическим трудам, и к поздним, и к многочисленным рецензиям, и к выступлениям на различных научных форумах.
Правда, как уже отмечалось, согласно Дюркгейму, роль рационального начала в современных европейских обществах усиливается и будет усиливаться и в дальнейшем. Но и в будущем, с его точки зрения, потребность в разного рода иррациональных факторах, а вместе с тем и их значение, сохранятся. Это относится и к религии, в том числе и к новым культам, которые могут возникать; и к квазирелигии; и к гражданской религии. Иррациональное начало сохранится также и собственно в самой морали, даже если она будет в значительной мере секуляризована и освобождена от традиционного религиозного влияния, от того, что Дюркгейм называл «теологической религиозностью». Не случайно он настороженно относился к идее «научной морали»: признавая важнейшее значение «науки о морали», он отрицал, что эта наука сама может стать общественной моралью.
Специфическое сочетание эпистемологического рационализма и отмеченного нами онтологического иррационализма дает основание сопоставить исследовательские подходы Дюркгейма и Фрейда и увидеть их близость. Так же как Фрейд стремился дать рациональное и даже ультрарациональное объяснение человеческому поведению, которое в основе своей, согласно его интерпретации, является иррациональным, Дюркгейм стремился рационально исследовать социальную и моральную реальность, которая, с его точки зрения, в значительной мере управляется иррациональными социальными силами. В обеих теориях мы видим специфическое сочетание рационалистических и иррационалистических тенденций. В обоих случаях имело место стремление рационально исследовать и объяснить во многом иррациональную по своей сути реальность .
Итак, отвечая на вопрос, фигурирующий в заголовке настоящего раздела, можно утверждать следующее. Дюркгейм был эпистемологическим рационалистом , полагавшим, что рациональные методы познания, в сочетании с эмпирическими, дают исследователю адекватное представление о социальном мире. Он был отчасти и онтологическим рационалистом , считая, что в этом мире есть свои закономерности, своя логика, которые делают его умопостигаемым, доступным для рационального познания. Но он не был онтологическим рационалистом в том смысле, что не считал социальную реальность царством разума, не рассматривал рациональное начало в качестве главного и, тем более, единственного фактора социальной жизни. В ней, по Дюркгейму, огромное значение имеют сакральное, чувства, верования, традиции, обычаи, ритуалы, предрассудки, суеверия и другие разного рода иррациональные по своей природе явления.
Читать дальше

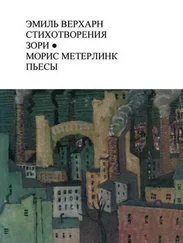



![Эмиль Дюркгейм - Самоубийство [litres]](/books/386854/emil-dyurkgejm-samoubijstvo-litres-thumb.webp)
![Эмилия Грин - Плохое воспитание [СИ litres]](/books/397035/emiliya-grin-plohoe-vospitanie-si-litres-thumb.webp)