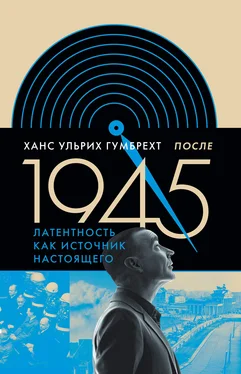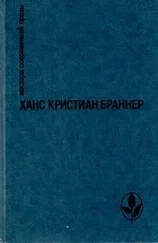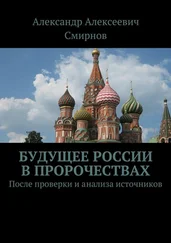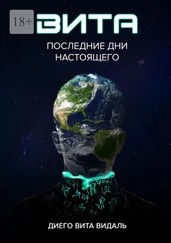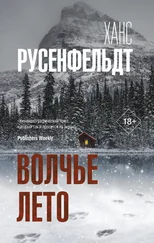Весной 1980 года шок от яркости солнца и новой рабочей обстановки начал изменять меня куда больше, чем я готов был признать. Когда мне оказали честь и пригласили в Беркли снова в первые месяцы 1982 года, я отправился туда один, потому что жена моя тогда ждала нашу дочь Сару; а еще она хотела провести какое-то время в Саламанке со своей семьей и нашим сыном. В это время отношения между нами стали еще более сложными – и это делало мечту о будущем в Калифорнии еще более привлекательной для меня. Когда меня попросили прочесть лекцию на соискание места на отделении сравнительного литературоведения, я говорил (с ироническим подтекстом) о «вечно поднимающемся классе буржуазии в марксистских историях литературы». Я все еще помню, как в ходе начавшейся дискуссии меня ранил первый же вопрос, который, естественно, шел от коллеги с деконструктивистским уклоном: «Мы все надеялись услышать серьезное прочтение – а вы вместо этого утомили нас каким-то глупым нарративом». Именно с такой агрессией все это и было сказано. Даже не помню, что конкретно я тогда ответил. Но чудесным образом я все-таки получил то место. Однако хотя я уверял всех, что абсолютно точно приеду в Калифорнию (что, если говорить о моем желании и моих намерениях, было абсолютной правдой), я также знал, что подобный переезд окажется смертельным для нашей с женой и без того хрупкой семейной жизни. Так что я решил остаться в Германии. Казалось, я вычеркиваю из жизни возможность нового открытого будущего, когда опускаю письмо с отказом в почтовый ящик.
Это решение выбросить в никуда собственное будущее совпало с предложением, поступившим из Германии, переехать в меньший университет, которому, дабы обеспечить себе академическое будущее, нужен был новый и более молодой по духу факультет, и он предлагал мне исключительные условия работы. Что, собственно, было типично для немецких университетов того времени. На волне успеха и экспансии, породившей «экономическое чудо» 1950-х, было образовано множество новых университетов – и произошло это, кажется, больше из-за соревнования между десятью федеральными землями, а не потому, что был какой-то суперплан по продвижению высшего образования в массы. Будущее этих новых университетов было столь же пустым, сколь и мое собственное – хотя, казалось, бюджеты у них были просто неиссякаемы. Моим скромным вкладом в перераспределение ресурсов при университете Зигена (прямо в центре бывшей Федеративной Республики) была организация в 1981–1989 годах пяти больших, щедро оплачиваемых коллоквиумов в так называемом «Центре междисциплинарных исследований» на Адриатическом побережье в прекрасном городе Дубровнике. Ключевым был тот факт, что Дубровник находится в Югославии – единственной социалистической стране с относительно либеральной экономикой и политикой в сфере образования. Югославия позволяла западным ученым организовывать академические события на собственные деньги и предоставляла им полную интеллектуальную свободу. При этом другие, более тоталитарные социалистические страны не имели никаких серьезных оснований отказывать собственным ученым в возможности поездки в Югославию. Мы решительно хотели, чтобы эти коллеги смогли поучаствовать, ибо социализм и (возможно, в меньшей степени) марксизм все еще казались многим из нас лучшим воплощением будущего.
Хотя это и прозвучит снисходительно и осуждающе, но я до сих пор считаю, что сей благородный замысел по интеллектуальной «инклюзии» (если применить современный калифорнийский концепт к ушедшей в прошлое европейской реальности) очень быстро отодвинулся на второй план по той простой причине, что наши коллеги из социалистического мира, несмотря на все наши высочайшие ожидания и намерения, не имели ни малейшего влияния на ход дискуссии. Пролистывая сегодня пять массивных томов с материалами из Дубровника (три из которых мы редактировали вместе с моим многословным и интеллектуально блестящим другом Людвигом Пфайффером), я поражаюсь – и все еще весьма горд, – когда вижу, сколько же наших участников теперь стали важным фигурами в немецкой гуманитарной науке. Для меня, по крайней мере, топливом этого проекта, занявшего десять лет моей жизни, было эдипальное желание бросить вызов группе «Поэтика и герменевтика» («Poetik und Hermeneutik») – целого круга высокоуважаемых ученых в гуманитарных науках, собравшихся вокруг моих бывших наставников из Констанца (которые, как я считал, недостаточно высоко оценили мои достижения). Благодаря решению крупнейшего немецкого издателя выпустить наши заседания в бумажном виде мы отчасти достигли успеха в борьбе со старшим поколением. В Дубровник нас привело все-таки опять же прошлое, но мы с Людвигом стали глубже осознавать свою роль в качестве катализаторов нового стиля в науке – стиля первого истинно поствоенного поколения немецких ученых. Каждый из коллоквиумов имел четко заявленную – и часто слишком подчеркнуто заявленную – тему, и все эти темы соединялись в интенции сохранить интеллектуальную динамику 1960-х (которая уже обрела в то время квазисакральную ауру) в оформлении будущего гуманитарных наук. Между 1981 и 1985 годами мы «возвращались» к определенным сегментам истории нашей дисциплины, чтобы обнаружить новые ориентиры или вновь обратиться к нереализованным проектам: темами первых трех коллоквиумов были история научных институций, подходы к проблемам исторической периодизации и концепты «стиля».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу