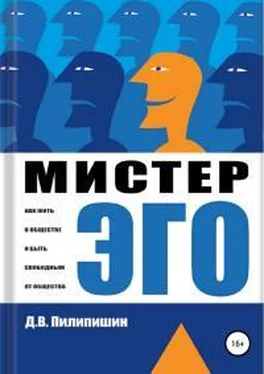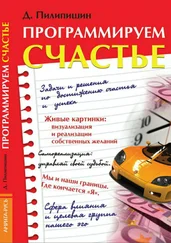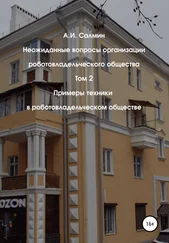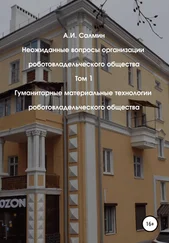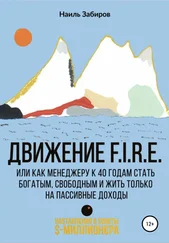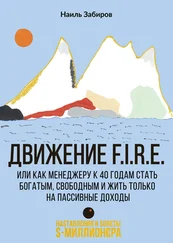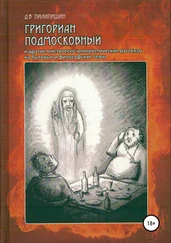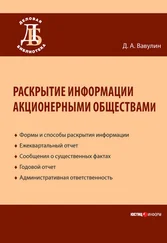Справедливости ради надо сказать, что на практическом уровне такая проблема не стоит: для оправдания собственной деятельности ссылок на личную историю недостаточно. Например, если на улице, не пожалев ценную стеклотару, вас ударил по голове бутылкой бомж и объяснил это своей нетерпимостью к людям культурным, проистекающей из его личной истории, вы, вероятно, выдвинете возражения, предполагающие некоторое долженствование со стороны бомжа (должен соответствовать определенным стандартам и нормам вне зависимости от своей истории).
Таким образом, сказанное позволяет заключить, что несмотря на присутствие целого ряда факторов, ограничивающих нашу свободу, нельзя с уверенностью говорить о том, что человеческая жизнь полностью детерминирована, целиком является следствием сторонних факторов. Более правильным представляется мнение, согласно которому свободе все же уделяется место в нашем существовании. При этом признается существование как тех ограничений, что преодолеть мы не можем, так и тех, что вполне преодолимы. И прежде, чем сделать окончательные выводы, бросим краткий взгляд на эти ограничения.
Итак, естественные ограничения. Здесь мы скажем несколько слов о так называемых неизбежных зависимостях, то есть зависимостях, для преодоления которых не существует общедоступного эффективного способа. Например, это материальные ограничения нашего тела. Выше, рассуждая о неабсолютности нашей свободы, этот момент мы обошли стороной, и, видимо, не совсем справедливо, потому что не весь массив факторов, ограничивающих нашу свободу, формируется личной историей.
Наша материальная структура нам изначально задана. Под ней мы подразумеваем не только визуально наблюдаемые, телесные параметры, но и интеллектуальные способности, до некоторой степени – характер и темперамент, отдельные врожденные склонности и т.п. Конечно, относительно последних можно спорить, насколько их природа материальна. Мы думаем, что вряд ли тип характера, к примеру, определяется строением тела. Но, согласитесь, обосновывать наличие духовной наследственности значительно сложнее, чем материальной, тем более, что материальная наследственность никем не ставится под сомнение. Поэтому здесь, условно, отнесем все перечисленные и подразумевающиеся категории в область материального. Ведь для нас важнее другое.
Оставляя в стороне антропометрические данные, акцентируем внимание на главном: каждый из нас несет в себе априорный предел собственных возможностей и предпочтений. В плане возможностей наглядна аналогия с телесным. Бывает так, что один рождается сильным – способен завалить быка ударом по лбу, если посчастливится попасть. Не то другой, не напрасно трепещущий от страха при виде куда менее сильного животного. Подобное и в части умственных способностей. Один низвергает соперников громадой ментальной мощи, другой демонстрирует интеллектуальную дистрофию.
В сфере предпочтений картина не менее очевидна. В зависимости от своего характера человек не только действует теми или иными методами, но и ставит те или иные цели. Ясно, что смелый, решительный и авантюрный человек примется за реализацию задач иных, нежели его спокойный, неизобретательный и туповатый коллега. А такие различия в характерах часто имеются уже при рождении. Автор неоднократно наблюдал развитие котят, с удивлением отмечая, сколь разными в психологическом плане могут быть родившиеся одновременно дети одной матери, как разнятся их характеры и поведение. Или собаки – одна родилась злой, кусает всех подряд, другая добрее, кусает избирательно. Что уж говорить про человека! Ведь здесь, в отличие от кота, в игру вступают сотни новых факторов: например, один склонен к аналитическому мышлению, другой – к художественному, образному. Нет смысла описывать все многообразие – полагаю, читатель исполнен собственных мыслей на этот счет. И кто бы что бы ни говорил об абсолютности свободы, с ограничениями на этом уровне придется смириться. Как и с некоторыми другими.
Ведь говорить об абсолютной свободе, подобно Ричарду Баху, можно только признав, будто бы единичный человек является чем-то совершенно независимым от общества, истории, системы отношений и т.п. Наш анализ показал, что предпосылка неверна. На самом деле человек неразрывно связан с другими, настолько неразрывно, что трудно определить, где же кончается он и начинаются другие.
Примечательно, что иллюстрация всеобщего единства не была целью нашего исследования, но явилась попутным его результатом. Сказанное не означает, что ценность этого результата тоже побочная – она вполне реальна. Если же говорить о специальных работах, посвященных отстаиванию этой позиции, то они представлены в изобилии и предлагают десятки вариантов доказательств и иллюстраций.
Читать дальше