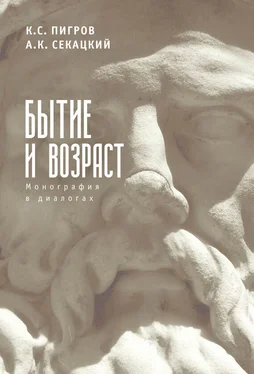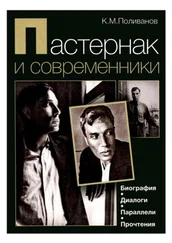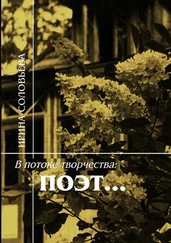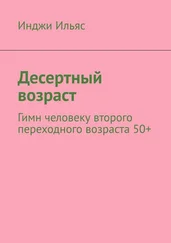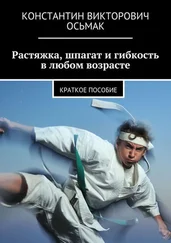Изначально очевидная неизбежность смерти свидетельствует о том, что время прежде всего дано нам в существенном аспекте циклического. Циклы поколений складываются в линейное время истории социума и цивилизации. В литературе неким общим местом является сравнение человека, человеческой жизни с листьями деревьев. Листья распускаются, зеленеют, исчезают. Циклы поколений, подобно листьям, появляются и исчезают в зависимости от времени года, но складываются в линейное время, которое в другом временном масштабе также оказывается цикличным. О чем нам говорят О. Шпенглер и А. Тойнби? То, что представляется линейным развитием, на самом деле есть цикл, и цивилизация также живёт циклами: рост, расцвет, надлом и гибель.
В циклическом времени возраста нам даны прежде всего дионисийные стихии – либидозные и танатические 113. Это фатальность рождения и фатальность смерти. Линейное время социума, выступающее в качестве горизонта циклического времени, в отношении отдельной человеческой судьбы мнится не дионисийным, а аполлоническим. Оно предстает как некие неподвижные звезды, на которые мы ориентируемся, например, звезды русской классики (А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский находятся по ту сторону дионисийного в масштабе российской культуры). Это линейное время мыслится как беспредельное восхождение, как некое движение к фундаментальной вертикали, как порыв и прорыв в сферу трансцендентного – оно воспринимается как спасение. Жизнь состоялась, если я чувствую своё включение в горизонт национальной культуры. «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире / Мой прах переживет…». – А. С. Пушкин чувствует, что выходит в другое измерение.
Выход человека из дионисийного циклизма своей судьбы в линейность и аполлоничность культуры не предзадан – он может случиться, а может и не случиться. И, таким образом, особую значимость приобретает концепт бессмертия души, входящий, по И. Канту, в сферу разума – наряду с бытием Бога и целостностью мира 114. Концепт бессмертия души построен на идее линейного времени, которое через свою беспредельность по сути выходит за рамки времени – по ту сторону времени вообще. Если душа бессмертна, то времени нет. Поэтому в проблему возраста обязательно входит не только идея смерти, но и идея бессмертия. И это бессмертие моделируется линейным временем, уходящим в беспредельность – упраздняющим время как таковое. В глубине души у каждого так или иначе присутствует проблема пути к бессмертию.
Путь к бессмертию – особенно в рамках новоевропейской цивилизации – предстает как объективация, как опредмечивание, как реификация и материализация, как скрибизация. Непременно оставить что-то после себя! Простейшая формула прописной морали – родить сына, посадить дерево, построить дом, вырыть колодец. Вообще, вырыть колодец, посадить дерево может каждый. Родить сына тоже может каждый (как писал А. С. Грибоедов: «Чтоб иметь детей, / Кому ума не доставало?»). Так что эта проблема стоит и перед обычным человеком.
Философ же хочет написать книгу, которая останется, – вот объективация, вот опредмечивание, оставить после себя некий текст, который потом будет воспроизводиться. Образцом для нас является Платон. С этой точки зрения мир вечности предстаёт как соломинка, за которую цепляется смертный человек. Этот зов обнаруживается и в стремлении молодого философа во что бы то ни стало свой текст напечатать. Так связывается тема возраста с проблемой авторствования.
Авторствование через материализацию – это способ иллюзорный, но тем не менее неизменно действующий на пути к бессмертию. Таким образом, возраст человека задан в разломе между циклическим и линейным временем, и проблема каждого человека состоит в том, чтобы выскочить из циклического времени в линейное в безумной надежде на вечную жизнь.
А. С.: Внутри определенной возрастной стадии единицы размерности могут иметь любой масштаб. Скажем, у младенца это недели, у цивилизации – столетия, у планетарной системы – миллионы лет. Но с точки зрения штрихкода времени эти хроноединства могут быть современниками, точнее говоря, совозрастниками (сверстниками). Хрономонизм позволяет расширить границы изохронности О. Шпенглера, в соответствии с которой мы (фаустовская цивилизация) по штрихкоду являемся современниками (совозрастниками) поздней античности, но при этом принадлежим к другому порядку хронопоэзиса, нежели цивилизация современного ислама. Мы можем также быть совозрастниками некоего горного массива, например, Кордельеров, закваски и бродящего вина, некой галактики и даже тигра, лично принадлежащего императору. Аналогичная пометка на штрихкоде, указывающая на сопринадлежность к определенной стадии хронопоэзиса, раскрывает некую важную реальность. О. Шпенглер говорил, что арабская математика ближе к арабской музыке, чем к европейской математике 115. Возможно, в данном конкретном случае он был не прав, но общий принцип совпадения участка штрихкода времени остаётся чрезвычайно перспективным направлением исследований изохронии мира.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу