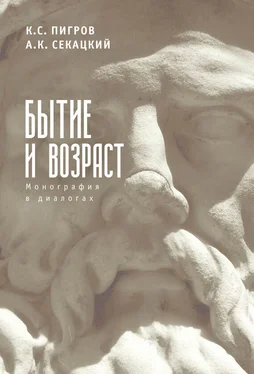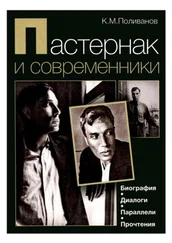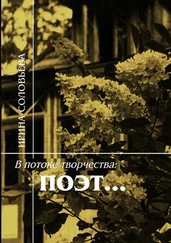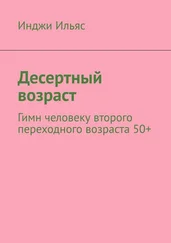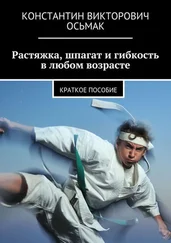Но, разумеется, ещё более важным и общим фактором является новая возрастная стратификация. Прежде всего необходимо отменить чрезвычайно несправедливый приговор, уходящий корнями в индустриальную и даже доиндустриальную эпоху, приговор, согласно которому «хождение на службу» или трудоустройство в стабильных, осадочных структурах социума рассматривается как «дело», как признанность, реализованность, в то время как шатание по городу и все сопутствующие ему занятия заранее дискредитированы в качестве безделья и вообще пустяка. А что если разобраться с неоправданным самомнением этих ответственных, определившихся взрослых ?
Если говорить без обиняков, то самосознание новых потенциальных племён должно выработать абсолютно внятный ответ: мы, осуществляющие нестяжательское бытие, суть воины и естествоиспытатели (и социоиспытатели), вся полнота контактного проживания – наш удел. А вот те, кто по возрасту отправлен в устойчивую или отстойную социальность, на свои «такие нужные» работы, их как раз и можно назвать своего рода пенсионерами. Как только такой вердикт будет вынесен, в его пользу найдётся множество аргументов.
Ну, во-первых, при ближайшем рассмотрении полезная нагрузка (а значит, и целесообразная занятость) современного офисного планктона, оказывается, мягко говоря, преувеличенной. Ещё двадцать лет назад Ж. Бодрийяр в своей работе «Символический обмен и смерть» весьма проницательно заметил, что скрытая безработица давно уже сменилась скрытой занятостью, неуклонно и иррационально растущей численностью так называемого персонала, польза которого, мягко говоря, сомнительна 61. С тех пор «персонал» получил устойчивое имя офисного планктона, а его «содержание и разведение» стало добровольным мистическим налогом, который неизвестно зачем берут на себя вроде бы вполне жизнеспособные бизнес-структуры.
Однако – и вот что воистину удивительно – переработка ресурсов и дистрибуция веще́й при этом не только не останавливается, но даже не очень-то и страдает. Громоздкие, неэффективные по всем привычным параметрам корпорации, худо-бедно, но обеспечивают практически то же самое, что обеспечивалось прежде авторизованными экономическими решениями и неустранимыми рисками.
Просто тогда ещё стыковочные узлы производства прибавочной стоимости требовали непременного и самозабвенного человеческого участия. Но вот теперь, по мере того как участки овещёствления, производства веще́й, удается поставить (замкнуть) на автопилот, когда задача минимального обеспечения вроде бы спокойно решается без «гримас капитализма», терпимость и снисходительность по отношению к пресловутому персоналу в частных фирмах уже ничем практически не отличается от паразитизма внутри госструктур.
Задумаемся над растущей скрытой занятостью, над этим феноменом, так или иначе свойственным всем развитым странам. Что заставляет капиталиста поддерживать лишний персонал, причём подбирать его именно по критериям офисного планктона?
Отчасти, конечно, тут можно усмотреть некоторую выгоду: сохраняемые рабочие места позволяют рассчитывать на госсубсидии и прочие льготы, если что, государство, быть может, не бросит в беде. Но это лишь доля истины. Внимательно всматриваясь в происходящее сейчас, на наших глазах, и пытаясь определить преобладающую психосоциальную характеристику работника фирмы, будь то во Франции, в Германии, в Швеции или даже в России, мы неожиданно видим, что эта характеристика имеет мало отношения к тому, что рекомендуют относительно персонала различные бизнес-руководства. «Инициативность», «энергичность», «способность генерировать оригинальные бизнес-идеи» – как бы не так! Действительной обобщающей характеристикой является «прирученность», или, если использовать один из любимых терминов Ф. Ницше, одомашненность. Всё ещё по инерции продолжает звучать любимая поговорка китайского политика-коммуниста Дэна Сяопина, имеющая аналоги во многих культурах: «Мне всё равно, какого цвета кошка, мне важно, чтобы она ловила мышей». Но она уже давно не соответствует действительности бизнес-сообщества, состоящего из стандартных «кошечек» одной серой породы, гордо именующих себя ответственными, законопослушными, по-настоящему взрослыми гражданами.
Со времен выхода знаменитой книги Т. Бодрийяра эта своеобразная скрытая безработица возросла на порядок. Западный мир вполне мог бы и не заметить закрытия половины своих офисов, если бы не огромное число людей, вдруг очутившихся не у дел так почему бы высвободившиеся средства не направить на авангардное бытие племен, если теперь возникли сомнения по поводу того, кто настоящий бездельник и кто занимается пустяками? Кроме того, прирученность и «одомашненность» никогда не будут перспективнее дикости и свободы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу