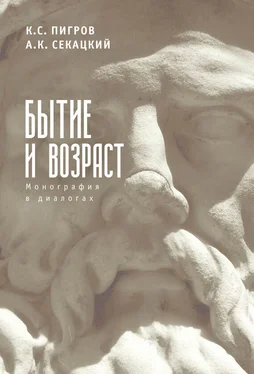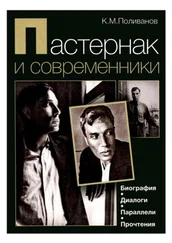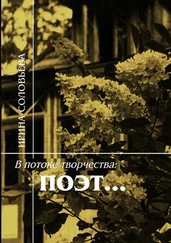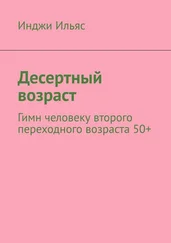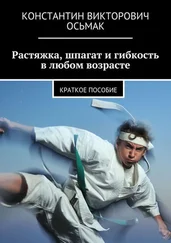Отрок, подросток, тинейджер – это возраст процессов и эксцессов выработки форм сопротивления давлению взрослых. Становление подростка, выход из детства отмечается ослаблением действия импринтинга. Вот я, подросток. Положим, учусь в пятом классе, мне двенадцать лет. «Окно» импринтинга, если ещё и не закрылось полностью, то постепенно закрывается. И я вдруг становлюсь «тупым». Эта особая «тупость» в известном смысле рациональна, потому что спасает мою самость, не позволяя мне и дальше, как в детстве, быть в русле старших, родителей и учителей.
Подросток начинает формировать новые эмоциональные отношения с миром, он становится открыт новым эмоциям, которые были неведомы ребенку. Здесь приобретают чрезвычайную ценность такие переживания, как смелость, удаль, дерзость, удача, отвага, подлость, трусость, унижение, риск и т. д. Причём подчеркнём, что все эти переживания, которые осмысливаются на уровне сознания подростка как элементарные концепты – такие как, скажем, риск и удача, – не постигаются и не вырабатываются рационально, хотя и обретают элементарную рациональную форму в процессах рационализации. Приведём пример подростковой рискованной игры «Собачий кайф»: подросток залезает в петлю, чтобы в течение нескольких секунд ощутить кайф от асфиксии. Хорошо, если рядом есть, кому помочь вовремя освободиться из петли. Иногда эта опасная игра заканчивается летальным исходом.
Инициация в этом плане оказывается сутью подросткового возраста. Ребёнок неистово хотел, чтобы его просто любили. Но подростку этого недостаточно, он стремится к самостоянию, к независимости. Он готов пойти на «героические жесты» грубости, нелогичности, необъяснимости, парадоксальности исключительно для того, чтобы отстоять свою самость. Подросток предчувствуется уже в детских капризах, он не полностью изживается и во взрослом возрасте. Нередко и неожиданно подросток обнаруживается в поведении взрослого как некий рецидив: взрослый «ни с того ни с сего» начинает действовать непредсказуемо, нелогично, непонятно для окружающих. Такого рода «подростковые» всплески мы встречаем в самых разных эпохах. «Новые левые» в 60-е гг. XX в. говорили о «большом отказе», когда человек оставляет насиженное место, бросает семью, детей, забывает своих друзей, расстаётся с привычной и хорошо оплачиваемой работой, чтобы всё начать заново. Или, например, подросток «оживал» в И.-В. Гёте, когда он без всяких видимых причин убегал от женщин, которые любили его.
Таким образом, подростковость – это время инициаций, начала испытаний, где осуществляется генезис индивидуальной воли. Дистанцирование с родителями осуществляется за счет опоры на компанию («стаю») сверстников. Чаще всего сложные отношения возникают между двумя полюсами влияния – влиянием родителей и влиянием компании. Подчас, особенно когда формирование собственной воли по тем или иным причинам отстаёт, подросток оказывается беззащитным перед диктатом окружающей среды. В ходе развития соперничества за подростка между родителями с одной стороны и компанией сверстников, – с другой подросток лавирует между ними и впервые получает возможность проявить свою суверенность. Подростку также впервые открывается радость вещи и соперничество за вещи, скажем, права авторства за стиль поведения и сопутствующий ему стиль веще́й.
Итак, наше рассмотрение определяется параллелью «подросток-инициация-революция». Также тут присутствует экзистенциальная тема, более существенная для девушек, – тема «гадкого утенка». Подросток – это трудное время «гадкого утенка», непропорционального развития, жестоких игр. Экзистенциальная сторона подростка нередко проявляется как внутреннее тотальное переживание комплекса неполноценности. В целом подростковый возраст можно определить как время вырабатывания культуры отрицания.
Почему мы используем именно эту метафизическую категорию? Потому что именно в подростковом возрасте до человека доходит одна простая мысль: бытие бессмысленно. Он оказывается перед этой в сущности неразрешимой проблемой – а взрослые, к которым он обращается, отделываются пустыми фразами. Они не могут конкретно сказать, в чём смысл бытия. И подросток понимает, что эту проблему он может и должен решить только сам. В значительной степени такое понимание связано с отрицанием. Встроенная в отрицание фрустрация открывает дорогу к пониманию самой идеи воинственности (ведь идея воинственности абсолютно необъяснима в рациональных координатах, как и идея войны). Какие-то варианты понимания (не объяснения!) возможно осмыслить только через призму отрицания – характеристическую призму подростка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу