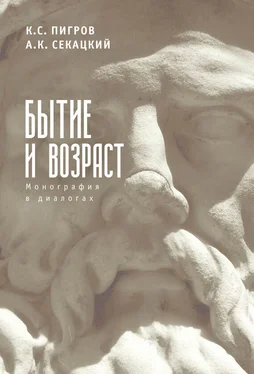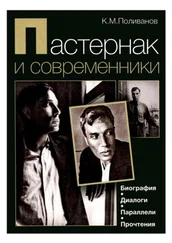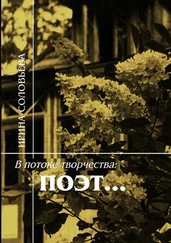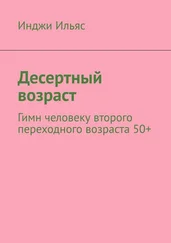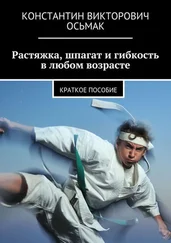Различие между имаго ребёнка и ипостасью взрослого в разы больше, чем между двумя взрослыми. Это не просто разные существа, но разные экзистенциальные сущности. Образуется своеобразный симбиоз, где, однако, нет никакого понимания. Ребёнок понимает, что инструкции имеют некоторое расширение. Например, ему говорят: надевай теплые ботинки, а то промокнут ноги; или не ходи без шарфа, а то простудишься; или съешь кашу, а то бабушка будет сердиться. Ребёнок внимательно слушает, и может показаться, что наши обоснования для него являются тем же, что и для нас – то есть некоторой формой аргументации, убеждения. Но в действительности для ребёнка важно не содержание, а структурная формула, согласно которой инструкция имеет право на расширение. Расширение по принципу «потому что». Так срабатывает этот участок конвейера, по которому проходит имаго. Ребёнок понимает, что нужно доказывать, обосновывать, как именно – для него неважно. Вопрос, как именно обосновывать, ещё не отвечает формациям психики, это приходит потом. Но необходимость доказывать прекрасна как таковая, она уже составляет будущий драйв «подлинной» любознательности. Сама «вопрошающая машина», конечно, работает на холостом ходу, но этот навык работы на холостом ходу рано или поздно пригодится, и она, «машина», будет производительно вгрызаться в материал вопрошания. Поэтому важно, чтобы все такты работы почемучки на холостом ходу были опробованы и запущены. И если родители (взрослые) пресекают поползновения ребёнка с точки зрения его неуемных желаний («хотеть не вредно»), что в данном случае они обычно «удовлетворяют детское любопытство» (как говорит Алиса в сказке Л. Кэроролла «Алиса в Стране чудес»), не замечая, что в очередной раз подкладывают червячка в жёлтый клювик. И они не могут этого не сделать, хотя бы потому что маленький человек хочет что-то узнать о мире. И кто же, если не я, расскажет ему о нём? Червячок положен – внимание завоёвано. Через пару минут клювик снова открылся… И в этом весь механизм «работы».
Меня в своё время в книге Леонида Пантелеева «Наша Маша» поразил забавный пример, который я потом проверил на своих детях – и он совершенно точно работает. Можно ли научить ребёнка нравоучением? Взрослому порой кажется, что исходным моральным суждением можно, например, пробудить в детской душе отзывчивость, жалость к младшим, хотя на самом деле жалость имеет совсем иную природу (тему детской безжалостности мы вообще вынесем за скобки). И вот там описан такой случай с Машей, дочерью писателя. Желая развить в ней совесть и, так сказать, моральность, отец всё время читал ей нравоучительные сказки, например «Кошкин дом» С. Маршака. Там есть замечательный эпизод, когда кошка просится ко всем в гости, так как у неё дом сгорел, и никто её не пускает, кроме котят, которых она до этого выгнала. Папа сделал упор на то, что кошке стало стыдно… Понятно, что взрослый хотел извлечь элементарное моральное суждение. Вроде бы всё получилось. Маленькая Маша понимает, как стыдно кошке за её прежние поступки. Но однажды папе пришло в голову спросить, а почему, по мнению Маши, кошке стало стыдно. Каково же было его удивление, когда прозвучал ответ: «Наверно, она пи-пи в штанишки сделала». То есть мы понимаем, что представления папы о формировании стыда были, мягко говоря, преувеличены. Это и есть антропоморфизм. Мы постоянно подставляем своё антропоморфное сознание, сознание иного существа тем существам, которые ещё даже не окуклились, не говоря уже о том, чтобы родиться в новом теле, в теле ego cogito, в том экзистенциальном проекте, в котором мы проживаем нашу жизнь и должны её проживать. Константин Семенович говорил о переходе к рациональному, но в действительности мы без особого аналитического внимания, без деконструкции считаем, что так всё и должно быть. Как добро и зло суть некоторые перворазличия – они отличаются во что бы то ни стало. Нельзя сказать, чем отличается добро от зла – у нас нет таких оснований, так как основания сами полагаются этим актом. Мы просто говорим, что добро отличается от зла, и если это так, то есть существо homo sapiens , есть munda Humana , мир человеческий. Если нам недостаточно утверждения, что добро отличается от зла и мы спрашиваем, «а почему это так?» – возможно, не проявится сама размерность человеческого. То же можно сказать и об отношении к детству. Люди и должны считать, что дети невинны, что они любознательные почемучки, для «малых сих» такое отношение совершенно обязательно. Но если мы претендуем не на звание родителя, а на звание философа (и только в этом единственном случае), мы не должны останавливаться перед этими заклинаниями, нам следует выяснить, как они аналитически устроены, хотя как родители мы ни в коем случае не должны этим руководствоваться. Но как раз этим философ и отличается от проповедника – он не должен бояться смутить одного из «малых сих», не должен останавливаться ни перед какими соображениями внутренней цензуры, приступая к философскому рассмотрению. А дальше идёт то, что было первой реакцией поэта Александра Блока, который как-то посетил заседание ОПОЯЗа (Общество изучения теории поэтического языка) – аналитического кружка, в который входили В. Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум и др. Они тогда рассматривали начала структурализма – как устроены повесть и роман, то есть «вскрывали механизм» порождения текста. А. Блок полтора часа слушал, что говорят о «нарративных структурах» и их построении. И вот они вышли в голодный Петроград 1919 г., и В. Б. Шкловский, который привёл туда А Блока, спросил, что он обо всём этом думает. На что А. Блок ответил: «я думаю, это все правильно, но одновременно я думаю, что писателю лучше всего этого не знать». Он был совершенно прав. В каком-то смысле должна оставаться конструктивная иллюзия. Писателю этого действительно знать не нужно, и сам А. Блок, по-видимому, услышанное мгновенно забыл. Также существуют многие вещи, о которых лучше не знать родителям. Им лучше согласиться с воспроизводством тех традиционных заклинаний, гуманистических пафосных моментов, потому что они срабатывали сто, двести, тысячу лет назад это проверенный конвейер, он будет работать и дальше. За одним единственным исключением – если мы претендуем на звание философа, а не только являемся родителями. И тогда нет таких веще́й, знания которых мы могли бы испугаться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу