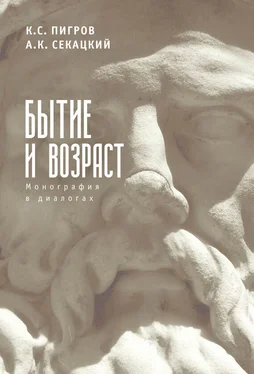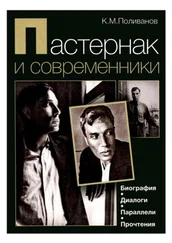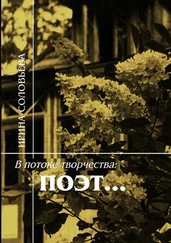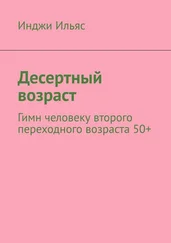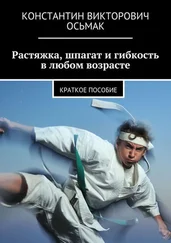Почему же эта «желторотая машина» столь чудовищна? Потому что она поедает прежнее поколение. Появившись на свет, ребёнок ставит под вопрос бытие тех, кто уже есть: «И всех вас гроб, зевая, ждёт». Мы предназначены для нового цветения, нового разыгрывания этой драмы. Ребёнок, как и всякая новизна, начинает с отрицания значимого. В диалоге со значимостью в случае удачи нововведения что-то выкристаллизовывается (или чаще всего ничего не выкристаллизовывается), при этом старшие поколения представляют аполлоническое начало порядка, устроенности, статичности, геометричности мира. Ребёнок – это начало дионисийное, временное, в нем ничего ещё не установлено, все может быть переиграно заново, сделано иначе. Таким образом, ребёнок постоянно напоминает социуму о необходимости творчества.
А. С.: Я хотел бы добавить, что на уровне реальности происходящего речь должна идти скорее о задержке окончательной определённости, о замедлении необратимого выбора. Бытие ребёнка представляет собой, как говорят в термодинамике, сумму взвешенных частиц «шанс-газа» (идеального газа). Чем дольше он хранит неопределённость как возможность стать кем-то или никем не стать, чем больше разнообразных шансов будущего содержится в резервуаре детства, тем больше мы выиграем, потому что мы сохраняем таким образом самый дефицитный продукт творения – результат неустанной работы негативности – пустоту. Из великой пустоты детства можно ещё сделать что угодно, в отличие, например, от уже осуществленных, специализированных, инструментализированных тел животных. Биология нас учит, что между зародышами и даже между новорождёнными младенцами людей и животных существует большое сходство. Например, новорождённый младенец шимпанзе и человеческий младенец какое-то время развиваются параллельно. Серьёзные различия появляются только с четырех месяцев, причем, на первый взгляд, не в пользу «человеческого детеныша»: младенец шимпанзе или любого другого животного слишком быстро взрослеет, срабатывают и замыкаются рефлекторные кольца, он уже может лазать по веткам дерева, осуществлять целесообразные действия. А человеческий младенец все ещё дурак дураком. Он ничего не умеет, и в этом есть величайшее преимущество: он более длительное время сохраняет пустоту. Такое продлённое детство надо выдержать , чтобы не замкнулось ни одно рефлекторное кольцо, чтобы осталось как можно меньше инстинктов, как можно больше неопределённостей и шансов бытия заново.
Чем дольше тянется детство, тем больше выигрывает культура, тем больше у нас шансов для воцарения диктатуры символического, а не какого-нибудь привычного пути природы. И именно здесь уклонение в специализацию, слишком быстрое программирование ведут в тупик. И, напротив, некоторое сохранение (и порой сохранение пожизненное) навыков ученичества, возможность чему-то научиться – это величайшая добродетель человечества. Это ценнейшее качество, которое по преимуществу является определением юного возраста, в каком бы реальном возрасте оно ни проявилось.
К.П.: «Хранить пустоту» – это ключевое понятие, к тому же удачно сформулированное. Культивировать ничто. Ничто, где всё присутствует в потенции. Фридрих Шеллинг вспоминает свою молодость: «Какие были времена! Казалось, что всё возможно!» Идея, что всё возможно, – это идея детства. Хранить пустоту, ничто, задержать детство – это фундаментальная дидактическая установка. Но смотрите, чем она тут же оборачивается? Задержать чье детство? Задержать детство взрослого? Человеку восемнадцать, двадцать, тридцать лет, а он все ещё мальчик, ребёнок, детство задержано, у него ещё всё впереди… И в какую позицию он попадает по отношению к настоящему ребенку? Ребёнок мне не нужен, ребёнок уже есть – это я. Поэтому я не хочу своих детей, а если они появились, то их надо поставить на место. И Ж. Ж. Руссо, этот великий мыслитель, гений, который нам и открыл феномен детства в философском измерении, своих детей не принимает, отдает в воспитательные дома. Внутренняя опасность хранения пустоты объясняет феномен инфантилизации современного мира. Это особенно видно при столкновении цивилизаций. Например, в чеченской войне с одной стороны стояли российские федеральные войска (двадцатилетние дети), с другой – чеченские боевики (четырнадцатилетние взрослые). Последние уже взрывают фугасы и тем кормят семью. Та же ситуация в Израиле, или в Иране, или в Афганистане. С одной стороны солдаты цивилизованных стран – дети, с другой – взрослые, которые с нашей точки зрения по возрасту совершенные дети.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу