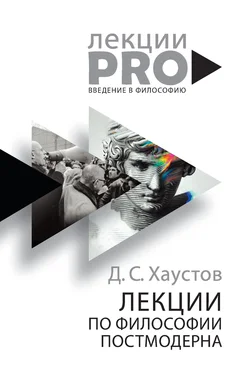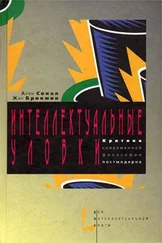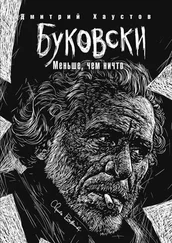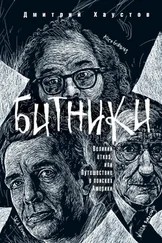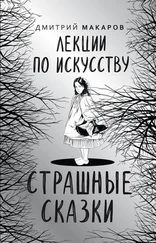Дискурс ограничен, его границу задает Другое (иначе говоря, его граница задает Другое). Само слово «дискурс», как известно, означает речь, просто разговор, рассказ, некое говорение. Тем самым оно напоминает другое знакомое нам слово – «логос», также и речь, и слово, и рассказ, и разумение. Логос и дискурс очень близки. Чуть-чуть погуляв по бесконечным комнатам дискурсивного пространства, мы начинаем понимать античное положение о том, что божественный логос управляет всем. Наш современный дискурс едва ли божественный, но он точно всем управляет, в этом нет сомнений. Однако коннотации немного меняются. В Античности на логос уповали, ему верили, он обладал абсолютной ценностью, и разве что нехорошие софисты цинично делали из него жевательную резинку. Сегодняшние философы подобно своим предкам софистам не склонны сакрализировать дискурс, они относятся к нему холодно, прагматически, операционально. Если в Античности сам Логос был этаким абсолютно Другим всему сущему, то ныне Другое дискурса – это какой-нибудь другой дискурс, поэтому абсолютистские аллюзии вроде бы остались в прошлом. Логос стал тем самым метанарративом, которому мы с легкой руки Лиотара стали активно не доверять. Дискурсы же – это эффективные инструменты такого недоверия. Гегель был последним рецидивом античного абсолютизма, после которого тотальное тождество стало стремительно раскалываться на бесконечно инаковые друг к другу фрагменты.
Философы дискурса, философы постмодерна работают подчеркнуто фрагментарно. Поэтому их работа в основе своей строится на противопоставлении логоса и дискурса, которое мы задали выше. Постмодернист атакует тотальность логоса с помощью фрагментарности дискурса. Отсюда ясно, почему главное ругательное слово в вокабуляре Жака Деррида – это логоцентризм, и почему он так стремится уничтожить метафизику, которая как раз и строится на примате абсолютного и самотождественного логоса. Именно на это направлена деконструкция, о которой речь впереди, на это направлена и генеалогия в традиции Ницше – Фуко, которая стремится разрушить логоцентрическое единство большой истории, обнаруживая в ней множественность микроисторий, фрагментов, событий и столкновений единичных сил. Пожалуй, любой проект философии постмодерна – будь то деконструкция и генеалогия (археология), будь то шизоанализ, семиология, анализ симулякров и так далее – имеет свою главную цель в атаке на своего главного врага, который явлен в метафизической традиции тотального логоса. Атакованный и взорванный изнутри дискурс раскалывается на множество дискурсов, которые бесконечно фрагментируют мир языка и сознания.
Если логос – это тотальность (всегда обещанная, но никогда не реализованная), то дискурс – это сингулярность , то есть единичность, которую нельзя абсолютизировать и которая всегда ограничена Другим иных множественных единичностей. Сингулярность, таким образом, есть фрагмент, есть нечто именно такое, какое оно есть – скажем, таковость, этовость. Дискурс именно такой, это отличает его от другого дискурса, который тоже такой, какой он есть. Таким образом противопоставленные друг другу дискурсы могут вести себя по-разному. Они могут существовать, соблюдая границу, уважая их общую инаковость. Другой вариант – нарушать границу, заходить на территорию Другого, пытаться подчинить его своим имманентным правилам, делая их трансцендентными. В этом втором случае дискурс тяготеет к тому, чтобы вновь стать логосом. Сталкивающиеся дискурсы открывают в себе ницшеанскую волю к власти, волю к силе и разрастанию, волю к подчинению себе других дискурсов. К примеру, очень часто наука перестает заниматься своими дискурсивными делами и вмешивается в существование других дискурсов, указывая им на то, что вот это, мол, ненаучно, поэтому это чушь. Безусловно, внутри научного дискурса все это чушь, как и наука есть чушь внутри, скажем, религиозного дискурса. Как изнутри науки невозможно сформулировать религиозного высказывания, так и изнутри религии невозможно сформулировать высказывания научного. Понимания этого достаточно, чтобы соблюдать границу. Но получается это крайне редко.
Дискурс, тяготеющий к логосу, превращается в некую идеологию – в классическом смысле ложного сознания. Это сознание ложно потому, что оно забывает собственные правила, неразрывно связанные с собственными границами. Его ложь заключается в его инфляции. Как человек, претендующий на собственность другого, как государство, поглощающее территорию соседнего государства, – все это примеры лживого забвения правил и границ, забвения, которое чаще всего заканчивается плачевно: судом, интервенцией, увесистым подзатыльником. Идеология в этом смысле есть болезнь дискурса, его ожирение, связанное с неправильным обменом веществ – то есть неправильной регуляцией высказываний внутри дискурса. Высказывания, формулируемые в дискурсе, верны, когда они соответствуют правилам, которые задаются исходя из границ предметной области данного дискурса. Нарушение правил расшатывает границы дискурса, тем самым ставя его под вопрос. Учитывая то, что сегодня тоталитарные и абсолютистские претензии признаны провалившимися и искорененными, всякий дискурс, ограниченный Другим дискурсивным пространством, через свою инфляцию лишь движется к самоуничтожению.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу