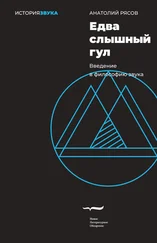Размышление вас поглощает, разумеется, потому что оно не только интересно, оно и значимо, жизненно значимо. «С самим собой» – т. е. кто-то еще есть, кто-то спрашивает, кто-то отвечает, кто-то слушает, что тот отвечает, и это я же. А мне важно, чтобы отвечающий отвечал, даже если это мне неприятно. Как же сделать так, чтобы не обмануть себя в этом важном разговоре? Значит, я должен этого второго себя сделать другим, ну просто совсем другим, который во мне совершенно не заинтересован. Он как нелицеприятный носитель истины. Но другого мы тоже можем обмануть, если захотим. Получается это странное расщепление на Я как абсолют но другое и это другое как абсолютное Я. Теперь попробуйте развести это до предела, и вы получите взаимоотношения с Богом, до какой-то степени, разумеется. Что значит говорить с собой так, чтобы никак от себя не скрываться – не только в своих душевных проблемах, но и во всех вопросах, которые я решаю. Мне для этого нужен глаз, мне для этого нужен кто-то или что-то, что видит до последней черточки всё, что происходит, от которого я не скроюсь. Вот на какой проекции возникает этот божественный свидетель.
Я и мой Бог. Что мы тут делаем вместе с Господом Богом в этой исповедальной беседе? Мы друг друга выясняем. Ведь посмотрите, что делается на протяжении всей «Исповеди»: он не только себя раскрывает перед лицом Бога, он и Его тоже раскрывает как такого, который обладает не схоластическими атрибутами, а способностью видеть всё до конца, понимать, присутствовать каким-то образом везде, где я присутствую. Эта исповедь, этот внутренний разговор с самим собой обретает характер одновременно, говоря богословскими терминами, теодицеи и антроподицеи, или даже эгодицеи. Это самооправдание перед лицом Бога, но это и оправдание, даже выстраивание Бога и выстраивание самого себя перед лицом Бога. Значит, это взаимораскрытие.
Так развертывается любой архитектонический мир, это вовсе не обязательно только здесь, в «Исповеди». Это всегда взаимополагание, взаимораскрытие того, кто обитает в этом мире, т. е. человек в сократо-платоновском размышлении, в августиновской исповеди, в декартовском сомнении. Человек, философствуя, не просто встраивается в какой-то заданный мир, нет, он одновременно развертывает, раскрывает, истолковывает такой мир, такого Бога, а навстречу им – развертывает субъекта, личность этого мира. Не забудем и его самого, третьего, который исчезает в этом герменевтическом взаимораскрытии мира и его обитателя. Как только он это сделал, так он сразу становится жителем этого мира – и всё, и он стал уже, скажем, христианином, епископом гиппонийским, святым отцом и т. д.
Но в «Исповеди» Августин это делает у нас на глазах, он строит христианский мир, и христианина, и Бога его. Строит – это, конечно, слишком сильно сказано, ведь речь идет об откровении Бога, только производимом как бы человеком. Разумеется, у него Библия на столе лежит, и он слушает, и читает это слово, и вводит его в разговор, но он его внутри себя развертывает, строит, раскрывает, и становится сам человеком этого мира. Вот что значит эта исповедь как форма, сопоставимая с тем, что в Греции называлось сократической беседой. Ведь в сократической беседе или платоновском диалоге мы не просто выясняем, как оно там есть на самом деле, а мы определенным образом строим этот космос греческий и отвечающий ему ум. Помните, что диалог «Тимей» (точнее, не диалог, а научный доклад) с самого начала снабжен такой оговоркой, что мы построим вероятный мир, но если бы бог начал творить мир, то он, по всей вероятности, стал бы его творить вот так. Это то, о чем я говорю – копание в мыслях бога. Я своим умом, своим разумом творю мир как понятный мир, как мир совершенный. Точно так же и здесь, только, конечно, другой мир – у меня лежит перед глазами не платоновский текст, а Библия. Прежде всего я слушатель Божьего слова, между мной и Богом прежде всего отношения доверительного разговора.
Филологи выяснили очень интересную вещь, что Августин начинает разговор с Богом в такой тональности, в такой интонации, которая никогда не могла бы быть, скажем, у Плотина по отношению к его Единому. У Плотина божественное место занимает нечто, что он называет Единое. Он его называет отцом, родителем, почти как Бога, но тем не менее это оно . Кнему имеются какие-то мысленные, интеллектуальные обращения, но исключены обращения на Ты, просьбы, признания… Здесь же Августин затевает с Богом буквально интимный разговор. Это исповедь, которая вовлекает одновременно того, кому я исповедуюсь, в разговор. В этом интимном разговоре Бог оказывается гораздо ближе, чем не то что там Единое, а самые что ни на есть близкие мне вещи и люди. Он находится где-то внутри меня, ближе мне, чем всё остальное.
Читать дальше
![Анатолий Ахутин Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres] обложка книги](/books/407742/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs-cover.webp)