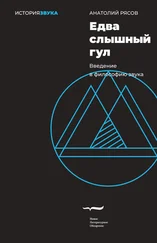Вот такая картина. Это то, что мы с вами так или иначе встретим во всей средневековой философии, или богословии – вместо философии. Она всегда будет встроена в богословие. Поэтому, что бы мы ни читали, нет никакой средневековой философии отдельно от богословия [140]. Не надо их путать, потому что в учебниках это совершенно никак не различается: история средневековой философии и история богословия – это как будто бы одно и то же, тогда как философию и богословие отличают все грамотные средневековые мыслители. Это расположение нам надо сразу с самого начала иметь в виду.
Впрочем, я вам мимоходом уже сказал, что такое – служебное – расположение философии характерно совсем не только для Средневековья. Вот Новое время, где христианство стало уже одной из частей культуры, а не тем, что определяет всю культуру. Тут философия в своем служебном положении как называется? Служанка науки. Она так и называет себя: Wissenschaftslehre, т. е. наукоучение. Она понимает себя как обоснование науки, или как гносеологию, или как методологию, т. е. как некий способ подготовить путь, обосновать, проложить рациональные хорошие рельсы к тому, чтобы наше научное знание действительно было научным. Раньше, когда науки еще не образовались (пожалуйста, услышьте в этом зачине позитивно-научных историй знакомый нам зачин архаических теогоний), был миф, породивший религию, породившую спекулятивную метафизику, от коей и родились – «отпочковались» – самостоятельные науки. Такова «космогония» в духе «позитивной философии» О. Конта [141]. После этого философии остается роль служанки науки – в том же, хорошем смысле слова: служить науке. В качестве «позитивной философии» она, например, рассказывает эту историю освобождения человечества от власти воображения и предрассудков, обосновывает единственную надежность научного, – то есть всегда относительного, строго держащегося наблюдений, рационально предсказываемого и проверяемого опытом – знания. Словом, позитивная философия это теория научного познания во всех возможных его применениях. Включая и то познание, на которое претендовала метафизика: ведь мы, наконец, надежно и уверенно делаем великое дело, мы строим с помощью науки великую цивилизацию на благо человечества и философия в этом служении находится, разъясняя, что всё делается очень правильно, всё очень хорошо.
Что я хочу со своей стороны подчеркнуть сразу же. Мы с вами можем зафиксировать возможное двоякое положение самопонимания философии с помощью такого образа, который, я думаю, теперь уже нам будет понятен. Каждый исторический мир мы можем определить как некую архитектонику: с одной стороны, человеческого понимания этого мира, с другой – того, что этому пониманию предположено в качестве понимаемого. Мы читаем Августина, и с самого начала возникают огромные трудности и вопросы, как нам познать Бога, но что речь именно об этом – ясно. Речь о том, чтобы понять мир как Божье творение и самого Бога как его творца. А дальше уже наше собачье дело, как это нам делать. Так же точно и в наше Новое время: имеется мир, который мы заранее знаем, он весь открывается этому самому научному, экспериментальному, математическому прогрессирующему познанию. Он нам таким вот предписан, такие у него, во-первых, проектом науки предположенные, во-вторых, саму науку допускающие черты. Вот этот пред-посланный мыслящему постижению образ я называю культурной и исторической архитектоникой мира. Греческий мир – это космос-строй, по сравнению с которым наша ньютоновская вселенная – полная акосмия, потому что космос – это порядок, убранство, некий умом обозримый и завершенный в себе образ, а наша ньютоновская вселенная, лишенная пределов, где летают в бесконечном времени материальные точки, – это акосмия. Ближайший к нему в Греции – это мир атомистов, но только заметьте, что последний кусочек порядка, неустранимого из этого мира, состоит в том, что атом имеет форму и абсолютно бессмыслен бесформенный атом. Не может для Демокрита атом быть бесформенным, тем более точкой, – это всегда какие-то там пирамидки, крючки, крестики, что угодно. Наоборот, в XVI–XVII веках, пока у меня имеется форма, я еще не имею дела с атомом, идея атома – это точка. Я должен эту форму разобрать: как она сложилась и из чего? Ну, разумеется, из бесформенного. Вот парадокс, с которым бьется эта мысль относительно начал. Лейбниц очень оригинально решает вопрос, придумывая свою монаду, но не будем пока об этом говорить.
Читать дальше
![Анатолий Ахутин Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres] обложка книги](/books/407742/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs-cover.webp)