Парфианов невесело усмехнулся.
— При самодержавии была бюрократия, взятки, доносы и цензура. Были праздность и барство привилегированного меньшинства, отношение к людям, как к скоту, правовой беспредел и нежелание власти что-то серьёзно менять… Убрали самодержавие, воцарились большевики. Остались бюрократия, взятки, доносы и цензура. Остались праздность и барство привилегированного меньшинства на Рублёвке, отношение к людям, как к скоту, в ГУЛАГе, правовой беспредел и нежелание власти что-то серьёзно менять… Убрали большевиков, воцарились демократы. А бюрократия, взятки, доносы и цензура остались. С новой силой расцвели праздность и барство привилегированного меньшинства, отношение к людям, как к скоту, правовой беспредел и нежелание власти что-то серьёзно менять… Уйдут демократы, воцарятся консерваторы. А бюрократия, взятки, доносы и цензура и все прочее — останется, уверяю тебя… Глупцы реформаторы этого не видели и корнем зла сочли самодержавие. Ну а земельный вопрос в стране в двадцать два миллиона квадратных вёрст? И это на двадцать два миллиона крестьянских хозяйств? И не хватало? Как в таком случае решался земельный вопрос в Лихтенштейне? — с досадой буркнул Парфианов.
Насонов рассмеялся и закончил рассказ.
— Они отметили также, что сегодня политика власти и оторванность большинства депутатов от народа старательно материализуют хорошо знакомый нашим прапрадедам призрак коммунизма, а все разговоры о демократии свелись к предложению возродить монархию в России или ввести пост пожизненного президентства. Предлагают вернуть даже государственный гимн российской империи «Боже царя храни»… — Насонов помолчал, но потом, кусая губы, сказал. — Ты знаешь, Адриан, я недавно начал признавать революцию как искреннюю попытку фанатичной веры изменить мир. Раньше мне казалось, что вся суть любых социальных изменений — в желании ограбить и придушить богача, опустошить его карманы, набить свои и стать гадиной в сто раз худшей, чем этот богач. Мне казалось, что все громкие слова только маскировали этот низменный помысел восставшей черни, возникший из зависти к более удачливому и наслаждающемуся. Сегодня, видя низость нуворишей, понимаешь, что за желанием очистить мир от социального неравенства могли стоять и более благие помыслы.
— Да, — согласился Парфианов. — я, глядя на сегодняшнюю церковь, тоже понимаю, что за расправами над духовенством не всегда стояло дьявольское богоборчество, но иногда и гнев праведный. Мир менее однозначен, чем мне казался. Но идеальных миров не существует, и разбоем рай не установишь.
Парфианов задумался. Как обронил когда-то Поль Валери, революция за два дня проделывает работу десяти лет и за десять лет губит труд пяти столетий. С этим не поспоришь. И сколько — триста ли, пятьсот лет мы будем навёрстывать потерянное? И восполнимо ли оно? Но ведь мы действительно ничего не хотим пересматривать, те же оценки, те же формулировки! Сегодня мы помним то, что лучше всего забыть, и не хотим вспоминать того, что делает честь стране.
— А я, знаешь, о чём там подумал? — вторгся в его размышления голос Насонова. — Почему самый кровавый мировой катаклизм случился именно в стране самой духовной и глубокой, уникальной и исключительной литературы? Это случилось вопреки ей? Или благодаря ей? Но если она подлинно велика, она не могла не влиять на умы, если же влияла, то откуда столько мерзости в народе, на ней воспитанном? А если влияния не было, то в чем её величие и значение? Какова её вина в катастрофе 17 года?
— Этим вопросом я сейчас и задаюсь, — кивнул Книжник, улыбнувшись Насонову. — Мы по-прежнему затвержено повторяем все ту же ахинею, что твердили те, кто рухнули в яму 17-года, зазубрено цитируем те же постулаты, что привели к обвалу. Мы даже пытаемся проанализировать произошедшее, вдуматься в него и переосмыслить, забыв простые правила хранения нашего прошлого: нельзя в один сундук складывать меха и моль, нельзя овец запирать вместе с волками. Но ты прав. Империя была заведена в ментальный тупик именно литературой. Именно она, «зовя Русь к топору», почти столетие формировала тот детонатор социально взрыва, который поднял на воздух империю.
— Я смотрел, работ о прямой связи литературы и революции — нет.
— Это значит, нам есть чем заняться. Революция — необходимая метафизическая кара лжецам и верящим им глупцам. Но оставаясь сегодня с теми же оценками и молясь на тех же лжецов, мы навлекаем на себя новые кары. Причина революции не в том, что какой-то генерал не выполнил приказ и нарушил присягу. Причина революции в состоянии душ и умов. Это явление духовного порядка, болезнь русского духа. Причины революции именно в том, что о ней мечтали целые поколения, её призывали и на неё молились, веками зовя Русь к топору. Ну, и дозвались себе на голову. Помнишь, у Иеремии? «Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их; ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли. Вот, Я полагаю пред народом сим преткновения, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут…» Революция была «плодом помыслов» целых поколений, и она оказалась пагубой для них. Я напишу об этом книгу, — неожиданно закончил он.
Читать дальше
![Ольга Михайлова Книжник [СИ] обложка книги](/books/406440/olga-mihajlova-knizhnik-si-cover.webp)


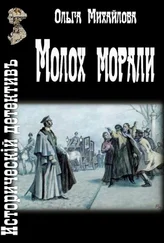






![Ольга Михайлова - На кладбище Невинных [СИ]](/books/413272/olga-mihajlova-na-kladbiche-nevinnyh-si-thumb.webp)

