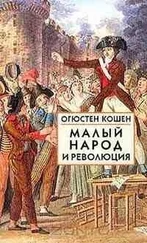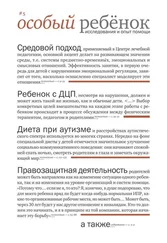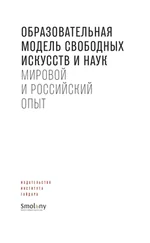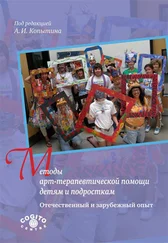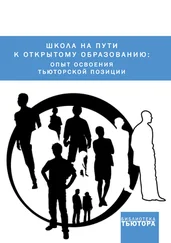В эпоху глобализации трудно было бы рассчитывать на стерильную национальную автохтонность революционных движений. Да и в прошлом она преувеличивалась. Французской революции помогали североамериканцы, российским революционерам — немцы, не говорю уже про антиколониальные революции XX века. Тем не менее многие из них были успешно признаны национально-освободительными.
Но, как только встает вопрос о спонтанности, оппоненты обвиняют революционеров в том, что они иностранные агенты. Действительно, США и Евросоюз открыто поддерживают демократические революции в разных странах — по крайней мере тем, что осуждают их насильственное подавление. Действительно, в любом социальном движении можно найти как минимум с десяток активистов, прошедших стажировки в той или иной американской или европейской политической институции. И поэтому — в этом-то и проблема — спонтанность революционерам столь же необходимо предполагать, сколь трудно ее доказать. Спонтанность эмпирически — это отсутствие организующей воли, ее слабость, раздробленность. Это не факт, а не-факт , а доказать таковой невозможно: откуда мы знаем, что те или иные действия восставших — скажем, на «Майдане» — не были запланированы? Откуда мы знаем, что те или иные граждане США не помогали их организовывать? Или не писали книг о том, как это делать? Поскольку эта аргументация уязвима, апелляция к спонтанности не может быть убедительным доказательством легитимности. На примере России и Турции мы видим, что обвинение революционеров (своих или в соседних странах) в иностранной поддержке наносит им серьезный моральный урон и делает этически непростым обращение за привычной внешней поддержкой.
Спонтанность и российская революция
В этой связи можно обратиться к прецеденту столетней давности — революциям 1917 года. Тема спонтанности революций стала центральной именно тогда. Началось все с хрестоматийного спора между Лениным и Розой Люксембург. Причем Ленин, как и вся российская социал-демократия, говорил о «стихийности», а не о спонтанности. В брошюре «Что делать?» (1902) он, не отрицая стихийности, призывал не фетишизировать ее и объяснял значимость сознательности (то есть, помимо прочего, следования идеологии и планам партии), вне которой стихийность может привести к узкоэгоистической постановке политических требований, к «экономизму» [6] Ленин В. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Он же. Полное собрание сочинений. М., 1983. Т. 6.
. В свою очередь Роза Люксембург — на тот момент уже крупный теоретик немецкой социал-демократии и знакомая оппонентов Ленина из «Рабочего дела» — в 1905 году ответила на это критической статьей «Организационные вопросы российской социал-демократии» [7] Luxemburg R. Organizational Questions of the Russian Social Democracy // The Rosa Luxemburg Reader. New York, 2004. Р. 248–265.
, где обвинила Ленина в недооценке спонтанности рабочих, в опасности зажать и задушить их энтузиазм.
«Тактическая политика социал-демократии — это не то, что может быть “изобретено”. Это продукт серии больших творческих актов зачастую спонтанной классовой борьбы, ищущей свой путь вперед» [8] Ibid. P. 255.
.
Впрочем, Люксембург не высказывается однозначно против ленинской воли к организации, а скорее фиксирует проблему, которую Ленин, по ее мнению, решает односторонне:
«Широкая народная масса, с одной стороны, и цель, выходящая за пределы всего существующего порядка, с другой, повседневная борьба и революционный переворот — таково диалектическое противоречие социал-демократического движения; и отсюда вытекает для него необходимость на протяжении всего своего развития пробиваться вперед меж двух подводных камней: между утратой массового характера и отказом от конечной цели, между возвращением к состоянию секты и превращением в буржуазное реформистское движение… Остановите естественную пульсацию живого организма — и вы ослабите его, уменьшите его боевой дух и сопротивляемость» [9] Ibid. P. 264.
.
Надо сказать, что немецкое слово «спонтанность» не полностью синонимично русской «стихийности» (хотя Люксембург русский знала и Ленина читала в оригинале). «Спонтанность» — термин римского права, означающий личную независимую инициативу субъекта ( suo sponte , буквально «собственным весом»), в то время как «стихийность» — от «стихии» — отсылает действия людей к природной, космической материи, не подвластной человеку [10] Lih L. Lenin Rediscovered. Leiden, 2005. P. 620.
. Поэтому Ленин предостерегает от того, чтобы оставлять события на произвол судьбы, верить в естественный ход истории, в то время как Люксембург, семантически, ведет разговор о свободе, инициативе и творчестве.
Читать дальше