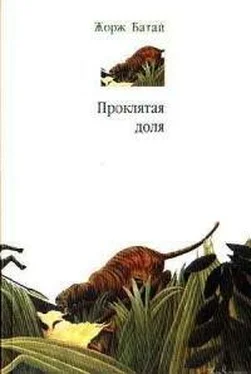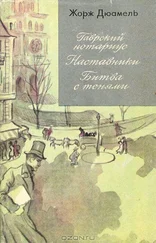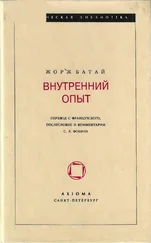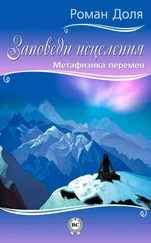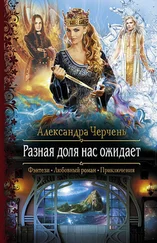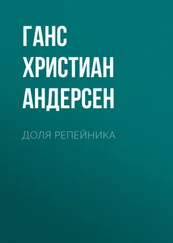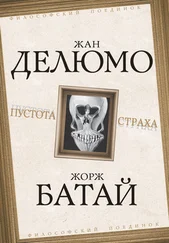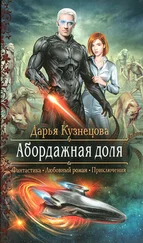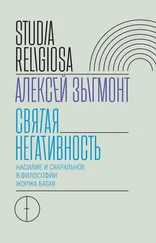Дар - не единственная форма потлача : сопернику можно бросить вызов и посредством торжественного уничтожения богатств. Такое уничтожение, в принципе, обращено к мифическим предкам одариваемого, и мало чем отличается от жертвоприношения. Даже в XIX веке случалось, что тлингитские вожди приходили к своим соперникам, чтобы зарезать перед ними своих рабов. По истечении предписанного срока "долг" возвращался тем, что должник предавал смерти большее количество рабов. Живущие на Северо-востоке Сибири чукчи имеют похожие институты. Они перерезают горло ценным собакам, запряженным в упряжки, чтобы испугать или подавить враждебную группировку. Индейцы северо-западного побережья Америки поджигали свои деревни или разрубали собственные лодки. Они хранят у себя украшенные геральдическими изображениями медные слитки, обладающие фиктивной ценностью (в зависимости от их известности или древности); порою такие слитки стоят целого состояния. Индейцы выбрасывают их в море или же разбивают. [34] Эти данные извлечены из образцового труда Марселя Мосса, Essai sur le Don, Forme et Raison de l'Echange dans les Societes archaiques, в Annee Sociologique, 1923-1924, p. 30-186.
4. Теория "потлача" (1): парадокс "дара", сведенного к "приобретению" власти
После публикации "Очерка о даре" Марселя Мосса институт потлача сделался объектом любопытства, порою двусмысленного. Потлач позволяет увидеть связь между религиозными и экономическими формами поведения. Тем не менее в формах поведения, свойственных потлачу , нельзя найти законов, общих с законами экономии, - если под экономией понимать условную совокупность некоторых видов человеческой деятельности, а не общую экономию в ее нередуцируемом движении. На самом деле было бы бесполезным рассматривать экономические аспекты потлача, не сформулировав перед этим точку зрения, обусловленную о бщей экономией. [35] Мне хотелось бы указать, что у истоков исследований, результаты которых я публикую сегодня, располагается прочтение моссовского "Очерка о даре". И прежде всего анализ потлача привел меня к формулированию законов общей экономии. Однако же небезынтересно указать на своеобразную трудность, которую мне стило большого труда разрешить. Вводимые мною общие принципы экономии, позволяющие интерпретировать большое количество фактов, оставили в потлаче, которым, по-моему, объясняется их происхождение, нередуцируемые элементы. Потлач нельзя интерпретировать односторонне - как потребление богатств. И вот недавно я смог разрешить возникшую трудность и наделить принципы "общей экономии" весьма двойственной основой: дело в том, что расточение энергии всегда представляет собой нечто противоположное вещи, но рассматривать его можно, лишь переводя в порядок вещей и превращая в вещь.
Не существовало бы никакого потлача, е сли эта проблема в общем касалась бы приобретения, а не расточения полезных богатств.
Впрочем, рассмотрению этого столь странного - и, однако же, столь знакомого - обычая (немалое число наших поступков сводится к законам потлача, у них тот же смысл, что и у потлача), придается в общей экономии первостепенное значение. Если в нас, через пространство, где мы живем, течет энергия, которую мы используем, но которая несводима к полезности (которой добивается наш разум), - то мы можем не знать этого, но все равно приспосабливать свою деятельность к тому, что свершается вне нас. Разрешение представленной таким образом проблемы требует действия в двух противоположных направлениях: с одной стороны, нам следует преодолеть те узкие границы, в которых мы обычно себя держим, а с другой - вместить тем или иным образом такое преодоление в эти границы. Поставленная проблема сводится к трате избытка. С одной стороны, мы должны отдавать, терять или уничтожать. Но дар был бы бессмысленным (и, следовательно, мы никогда бы не решились на него), если бы он не пес в себе смысл приобретения. Стало быть, необходимо, чтобы давать означало приобретать власть. Д арение имеет способность преодолевать субъекта, приносящего дар, но взамен подаренного предмета субъект присваивает само это преодоление: субъект рассматривает эту свою способность, на воплощение которой он отважился, как богатство, как власть, отныне ему принадлежащую. Субъект о богащается благодаря своему презрению к богатству, и то, в чем проявляется его скупость, является следствием его щедрости.
Читать дальше