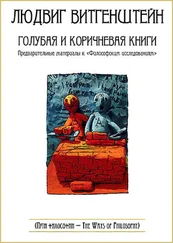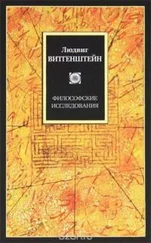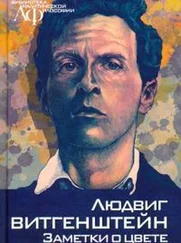Мы уже рассказывали в первом разделе этой главы о трагедии, которая привела к самоубийству Ганса в 1902 году. Мать не смогла уберечь своего первенца от смерти. Леопольдина Кальмус так же боялась своего мужа, как ее дети боялись своего отца. Это была одна из первых — если не первая — «эдипова семья» XX века. Но не следует все неудачи детей сваливать на родителей. Гермина Витгенштейн, например, считала, что, даже если бы Ганса оставили в покое, он все равно не был бы счастлив — слишком нервным он был, что, как она считала, сказывалось и в манере его музицирования. Гермина говорила также, что у ее братьев не было воли к жизни — Lebenskraft, Lebenswille, Lebensgefühl — как она по-разному называла это свойство, присущее безусловно ей самой [Germina Wittgenstein 1981].
Через год после самоубийства Ганса второй брат Рудольф (Руди) отравился в Берлине. Этот эпизод был отражен в одной из берлинских газет, где говорилось, что Рудольф зашел в паб, заказал выпить себе и таперу, попросил его сыграть свою любимую песню «Я пропал» и под звуки мелодии принял цианистый калий [Monk 1990: 12].
Этот мальчик был настолько болезненным, что, когда ему было семь лет и его повели в школу, то на собеседовании он был напуган всем происходящим, и учитель сказал, что мальчика надо показать психиатру. Руди запомнился его оставшимся в живых родственникам как юноша, имевший склонность к литературе и талант критика. Относительно его смерти существует несколько версий. По одной из них он был гомосексуалистом и страдал из-за этого (в одной из предсмертных записок он написал, что кончает собой из-за того, что умер его друг), согласно второй — у него была венерическая болезнь [McGuinnnes 1988: 28]. Скорее же всего, у такого болезненного, не приспособленного к жизни юноши просто не хватило душевных сил для самостоятельной жизни вдали от дома.
Третий сын Карла, Курт Витгенштейн, как считалось в семье, был не самым одаренным. Может быть поэтому он и выбрал карьеру военного, что, впрочем, тоже не уберегло его от самоубийства. О Курте известно, что он, приходя домой из оперы, любил наигрывать на одном из «девяти роялей» запомнившиеся ему арии и дуэты.
Отец назначил его директором компании, но Курт не любил работу, хотя старательно ее выполнял. Две попытки жениться провалились (никто из молодых Витгенштейнов-мужчин, детей Карла, никогда не был женат). До начала войны Курт Витгенштейн был респектабельным, богатым и культурным холостяком, не имевшим никаких обязанностей. Пройдя всю войну, в 1918 году на итальянском фронте блестящий кавалерийский офицер Курт Витгенштейн на глазах своих солдат пустил себе пулю в лоб. И вновь версий много, а смерть одна. Может быть, он не хотел попасть в плен или окружение; может быть, солдаты отказывались воевать, поскольку участь всей войны была предрешена и уже ясно было, что побеждает Антанта.
У всех трех самоубийств, с виду таких разных, были поверхностные поводы и глубинные причины. По свидетельству сестер, и младшие братья Людвиг и Пауль все время (во всяком случае, до определенного периода) психологически были на волоске от смерти.
Слишком жесткие жизненные требования братья получили от отца: так или иначе изменить этот мир. Последнее оказалось по силам только Людвигу, от которого этого в меньшей степени ожидали.
С другой стороны, Леопольдина явно имела психотическую (маниакально-депрессивную) душевную конституцию, которую она генетически передала сыновьям.
Судьба подарила братьям Витгенштейнам авторитарного отца и болезненную дефензивную мать. Выжить при такой наследственности, причем в начале века, когда самоубийства учащаются по культурно-историческим причинам, таким хрупким юношам было действительно очень трудно.
Как пишет МакГиннес, «сыновья утратили маниакальную веру отца в то, что всего возможно добиться. Для их депрессивных натур любая неудача казалась катастрофой, шла ли речь о карьере, нравственном начале в жизни или о судьбе их Родины» [McGuinnes 1988: 29].
Людвиг Витгенштейн был, пожалуй, единственным из сыновей, кто унаследовал убеждение отца, что добиваться должно всего, что тебе надобно, и приводил большинство из своих планов в исполнение. Витгенштейна, как писал Рассел в «Автобиографии», по впечатлениям от общения с ним в Кембридже в 1911–1912 годах, снедала «сатанинская гордыня». Недаром в одной из бесед с Друри Витгенштейн как-то сказал, что, если бы ему пришлось встретить Бога, он немедленно вызвал бы Его на поединок.
Читать дальше
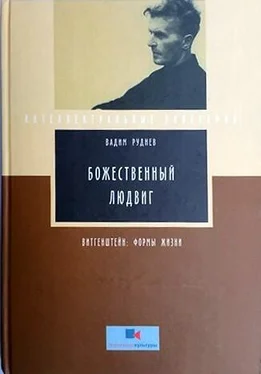



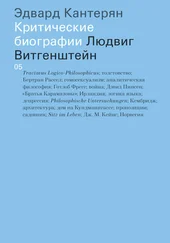
![Людвиг Витгенштейн - Философские исследования [litres]](/books/386204/lyudvig-vitgenshtejn-filosofskie-issledovaniya-litre-thumb.webp)