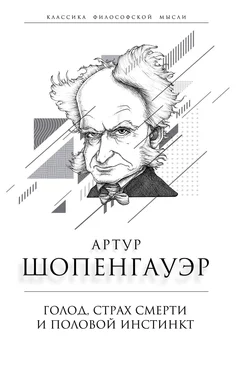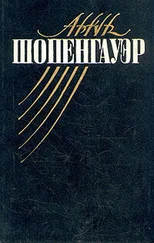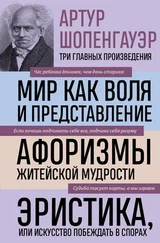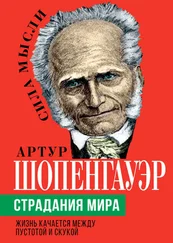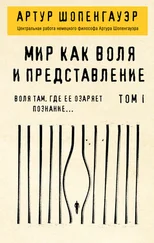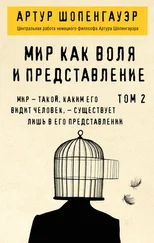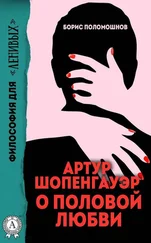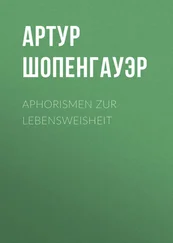Далее, место у Платона относительно оскорблений («Законы», IX, последние 6 стр., а также XI, стр. 131) достаточно показывает, что древние не имели никакого представления о рыцарской чести в подобных вещах. Сократ, вследствие своих постоянных диспутов, часто испытывал оскорбления действием, к которым он относился с полным спокойствием: получив однажды пинок, он терпеливо снес его и сказал удивленному этим лицу: «Разве я стал бы жаловаться, если бы меня толкнул осел?» (Диоген Лаэр[ций], II, 21). Другой раз кто-то заметил ему: «Разве тебя не ругает и не позорит этот человек?» – и получил от него ответ: «Нет, ибо его слова не подходят ко мне» (там же, 36).
Стобей («Собиратель нектара]», изд. Гэсфора, т. I, стр. 327–330) приводит нам длинную цитату из Музония, показывающую, как древние смотрели на оскорбления: они не звали иного удовлетворения, кроме судебного, а мудрые люди пренебрегали и тем.
Что древние не знали никакого иного удовлетворения за полученную пощечину, кроме судебного, это ясно видно из платоновского «Горгия» (стр. 86), где мы имеем также мнение на этот счет Сократа (стр. 133). То же самое явствует и из сообщения Геллвя (XX, 1) о некоем Луции Верации, забавлявшемся тем, что без всякого повода награждал пощечинами встречавшихся ему на улице римских граждан, с каковою целью, чтобы избежать всяких дальнейших процедур, он брал с собою раба, который нес мешок медных монет и немедленно выплачивал огорошенным неожиданной оплеухой законное вознаграждение за боль в размере 25 ассов.
Знаменитый киник Кратес получил от музыканта Никодрома столь сильную пощечину, что у него распухло и побагровело лицо: тогда он прикрепил себе ко лбу дощечку с надписью («Это сделал Никодром»), чем навлек большой позор на флейтиста, столь зверски поступившего с человеком, которого все Афины чтили точно свое местное божество (там же у Стобея, стр. 126; Диоген Лаэрций, VI, 89).
От Диогена из Синопа сохранилось письмо к Мелезиппу относительно того, что его поколотили пьяные молодые афиняне: он разъясняет здесь, что это ничего не значит (Письмо Казауб. к Диогену Лаэрцию, VI, 33).
Сенека в книге «О благоразумии», от 10-й главы до конца, подробно рассматривает оскорбления, доказывая, что мудрый не обращает на них внимания. В главе 14 он говорит: «Что же сделает мудрый, получив пощечину? – то самое, что Катон, когда его ударили по лицу: он не воспылал яростью, не отомстил за обиду, но он и не простил ее, а просто отрицал самый факт обиды».
«Да, – воскликните вы, – то были мудрецы!» – А вы, значит, глупцы? Согласен…
* * *
Честь и слава это – две сестры-двойняшки; близнецы эти, однако, подобны диоскурам, из которых Поллукс был бессмертен, а Кастор смертен: так и слава – бессмертная сестра смертной чести. Это, разумеется, надо понимать лишь о славе наивысшего порядка, о действительной и подлинной славе, ибо существуют, конечно, и разного рода эфемерные славы.
Итак, продолжаю, честь касается лишь таких свойств, какие требуются от всякого, находящегося в одинаковом положении; слава – лишь таких, которых нельзя требовать ни от кого. Честь имеет в виду качества, которые вправе всенародно приписать себе каждый; слава – качества, которых никто не имеет права себе приписывать. Между тем как наша честь простирается настолько, насколько мы знакомы людям, – слава, наоборот, бежит впереди знакомства с нами, занося его всюду, куда только она ни проникнет. На честь может притязать каждый, на славу – лишь люди исключительные: ибо слава достигается только необычайными заслугами, а эти последние опять-таки выражаются либо в деяниях, либо в творениях, – так что к славе открыто два пути. По пути деяний направляет главным образом великое сердце; по пути творений – великий ум.

Шопенгауэр в начале 1800-х годов.
У каждого из этих путей имеются свои особые преимущества и невыгоды. Главная разница между ними та, что дела проходят – творения остаются. Благороднейшее деяние все-таки имеет лишь временное значение; гениальное же произведение продолжает жить и оказывать свое благотворное и возвышающее влияние на все времена. Дела оставляют по себе лишь память, которая становится все более слабой, искаженной и безразличной и даже обречена на постепенное угасание, если ее не подхватит история и не передаст ее в закрепленном состоянии потомству. Творения же сами обладают бессмертием и могут, особенно воплощенные в письменности, пережить все времена. От Александра Великого сохранилось имя и воспоминание; Платон же и Аристотель, Гомер и Гораций продолжают существовать сами, живут и действуют непосредственно. «Веды» с «Упанишадами» – перед нами, а обо всех современных им делах до нас не дошло совершенно никакого известия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу