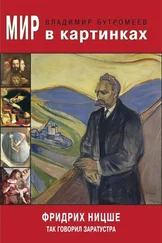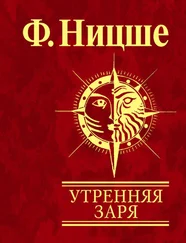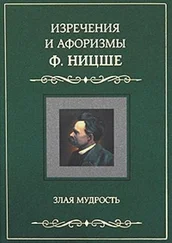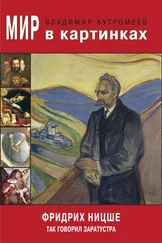не надо говорить, это невозможно; нужно гнать от себя эти воспоминания!» И в тот осенний день, о котором я начала говорить, он рассказал мне только, как однажды вечером, после всех этих ужасных скитаний, он «с сердцем, почти разбитым состраданием» приехал в маленький городок, через который пролегала большая дорога. Когда он обогнул городскую стену и прошёл несколько шагов вперёд, он вдруг услыхал шум и грохот, и мимо него, как сверкающая молниями туча, пронёсся красивый кавалерийский полк, великолепный как выражение народного мужества и задора. Но вот стук и гром усиливаются, и за полком в стремительнейшем темпе несётся его любимая полевая артиллерия и, ах, как больно было ему не иметь права вскочить на коня и быть вынужденным, сложа руки, стоять у этой стены! Напоследок шла пехота беглым шагом: глаза сверкали, ровный шаг звенел по крепкому грунту, как могучие удары молота. И когда всё это шествие вихрем пронеслось мимо него в битву, – быть может, навстречу смерти, – столь величественное в своей жизненной силе, в своём мужестве, рвущемся в бой, являя собой такое полное выражение расы, решившей победить, властвовать или погибнуть, – «тогда я ясно почувствовал, сестра, – так закончил свой рассказ мой брат, – что сильнейшая и высшая воля к жизни находит своё выражение не в жалкой борьбе за существование, но в воле к битве, к власти и превосходству!» «Но, – продолжал он, немного помолчав и вглядываясь в пылающее вечернее небо, – я чувствовал также, как хорошо то, что Вотан влагает жестокое сердце в грудь вождей; как могли бы они иначе вынести страшную ответственность, посылая тысячи на смерть, чтобы тем привести к господству свой народ, а вместе с ним и себя». – Многие, бесконечно многие пережили в то время нечто подобное, но глаза философа смотрят иначе, чем глаза остальных людей, и он извлекает новые познания из таких переживаний, которые ничего не дают другим. Насколько иным и несравненно более сложным должно было казаться ему столь превозносимое Шопенгауэром чувство сострадания, когда он впоследствии, возвращаясь мысленно к этим событиям, сопоставлял это чувство с представшим тогда его взору чудесным видением воли и жизни, битвы и мощи. В этой последней воле он видел такое душевное состояние, которое обеспечивает человеку полную гармонию его наиболее могущественных инстинктов, его совести и его идеалов; это состояние он усматривал не только в исполнителях такой воли к власти, но также и прежде всего в самом полководце. Быть может именно тогда впервые перед ним предстала проблема страшного и губительного влияния, которое может иметь сострадание, как некоторая слабость, в те высшие и труднейшие минуты, когда решается судьба народов, и насколько справедливо поэтому предоставление великому человеку, полководцу, права жертвовать людьми для достижения высших целей.
В какой глубокой захватывающей форме появляется впервые эта мысль о воле к власти в поэтических образах «Заратустры»; при чтении главы «О самообладании» во мне всегда встаёт тихое воспоминание об изображённых мною только что переживаниях, в особенности при следующих словах:
«Где я находил живое, там находил я и волю к власти; и даже в воле слуги – и там я находил волю стать владыкой».
«Что сильнейшему должно служить слабейшее, в этом слабейшее убеждается своей волей, стремящейся стать владыкой над ещё слабейшим: одной лишь этой радости не согласно оно лишиться».
«И как меньшее отдаётся большему, чтобы самому властвовать над ещё меньшим и радоваться о нём: так и самое великое в свою очередь отдаёт себя и могущества ради полагает жизнь свою».
«В том и самопожертвование высшего, что оно и отвага, и опасность, и игра в кости, где ставкой является смерть».
Весной 1885 года, по завершении четвёртой части «Заратустры», мой брат, насколько можно судить по его заметкам, уже решил сделать волю к власти, как жизненный принцип, средоточием своей главной теоретико-философской работы. Нам попадается заглавие: «Воля к власти, толкование мирового процесса». Зимою 1885/86 года он собирался сначала написать на эту тему небольшое сочинение, к которому у нас имеется целый ряд набросков. Он называет его: «Воля к власти. Опыт нового миротолкования». Совершенно понятно, что он останавливался в смущении перед необъятностью задачи – изобразить волю к власти в природе, жизни, обществе, как волю к истине, религии, искусству, морали, проследив её во всех её отдалённейших последствиях. Увы, как часто, вероятно, ему приходилось с отчаянием говорить себе: «Один! Всегда один! И один в этом огромном лесу, в этих дебрях!» И вот, чтобы хоть немного облегчить себе задачу и сделать её обозримее, он снова и снова пробует разбить свой большой труд на более мелкие, менее объёмистые трактаты. Так, весной 1886 года, он набрасывает план десяти новых произведений, которые могли бы быть выпущены в свет в качестве новых «Несвоевременных размышлений».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Фридрих Ницше - Песни Заратустры [сборник]](/books/28216/fridrih-nicshe-pesni-zaratustry-sbornik-thumb.webp)