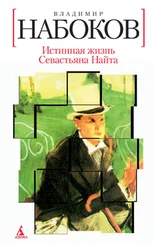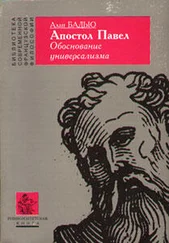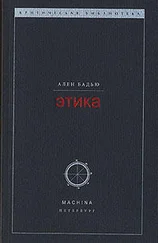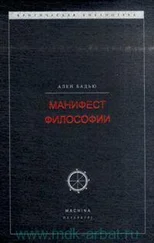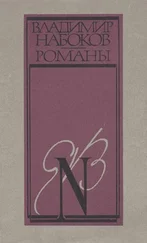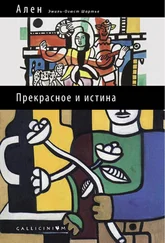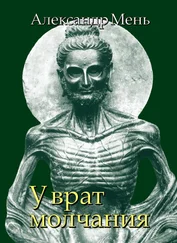Во-первых, сегодня канули в Лету суровые традиции и обряды вступления человека во взрослую жизнь. Представляя собой важную главу в истории человечества, они сохранялись долгие века. Десятки тысяч лет существования млекопитающего под названием «человек», этого двуногого без перьев, были помечены специфическими и обязательными ритуалами вступления во взрослую жизнь, организуемыми общиной. В зависимости от культуры это могли быть наносимые на тело метки, суровые испытания на физическую или моральную выносливость или же выполнение действий, запретных в детстве, но разрешенных по его окончании. Все это недвусмысленно указывало на то, что «молодой» – это в первую очередь тот, «кто еще не прошел обряд посвящения». И поскольку «быть молодым» в те времена прежде всего означало еще «не стать взрослым», молодость как понятие имело отрицательные коннотации.
Должен сказать, что подобный настрой в обществе и все эти традиции существовали еще совсем недавно. Согласитесь, что мои шестьдесят девять лет, хоть это возраст и немалый, в масштабах исторических эпох существования человека на земле – сущая ерунда и я могу с полным основанием заявить, что моя молодость прошла совсем недавно. Но мне представляется неоспоримым факт, что еще во времена моей юности для мужчин существовал общепринятый в обществе символический ритуал вступления во взрослую жизнь в виде обязательного призыва на действительную военную службу. Для девушек таковым являлось вступление в брак. Молодого человека можно было считать взрослым когда он, отслужив, возвращался из армии, девушку – когда она шла под венец. Сегодня эти два последних бастиона обязательных ритуалов вступления во взрослую жизнь рухнули и остались лишь в воспоминаниях бабушек да дедушек. Таким образом, мы имеем полное право утверждать, что молодежь в наши дни не обязана следовать подобного рода традициям.
Второй момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, заключается в некотором, пусть даже в самой незначительной степени, обесценивании старости. В традиционном обществе пожилые люди всегда правят бал, их почитают только за года, как водится, в ущерб молодым. На стороне стариков – мудрость и опыт, накопленный за долгие годы жизни. Сегодня это благоговение постепенно исчезает и уступает место культу молодости, который в определенной степени даже можно сравнить с фетишем. Этот фетиш: – тот же культ преисполненных мудрости стариков, только наоборот. Я говорю об этом в теоретическом и даже скорее в идеологическом плане, потому что власть на сегодняшний день в очень значительной степени сосредоточена в руках не то чтобы взрослых, но даже пожилых. В то же время культ молодости, как идеология и объект приложения усилий со стороны жаждущей прибылей рекламы, пропитал насквозь наше общество, образцом в котором теперь являются молодые. К тому же, как справедливо предсказывал Платон, описывая будущее демократических обществ, сегодня очень трудно избавиться от ощущения, что у нас скорее старики стремятся любой ценой остаться молодыми, чем молодые повзрослеть. Культ молодых – это стремление, по мере возможности, до последнего держаться за молодость, отдавая предпочтение молодости тела вместо признания изначального верховенства мудрости старости. Из этого необходимо вытекает, что для человека, переступившего определенный возрастной рубеж, «быть в форме» становится императивом. Длительные пробежки, теннис, когда надо и не надо, пластическая хирургия – здесь все средства хороши. Нужно оставаться молодым и быть им. Старики в спортивных костюмах теперь бегают по паркам, попутно меряя себе артериальное давление. И тут перед каждым, кому уже немало лет, возникает другая проблема: сколько ни бегай, а от старости все равно не убежишь, как потом и от смерти. Так человеку предопределила природа. Но это уже совсем другой вопрос.
Кроме того, сегодня, по крайней мере внешне, среди молодежи постепенно стираются внутренние различия, продиктованные принадлежностью к тем или иным слоям общества. За подтверждениями далеко ходить не надо. Во времена моей молодости экзамен на получение степени бакалавра по окончании средней школы сдавали лишь порядка десяти процентов выпускников. К настоящему времени, за какие-то несколько десятилетий, этот показатель взлетел до 60, а то и до 70 процентов. Когда я был молодым, от сверстников, не сдавших этот экзамен, нас отделяла целая пропасть, более того, очень многие мои ровесники вообще получали только начальное образование, и в возрасте одиннадцати-двенадцати лет им выдавали так называемое свидетельство об окончании начальной школы, подтверждавшее их умение читать, писать и считать, что давало возможность стать квалифицированным рабочим в большом городе. Кроме того, уяснив, что наши предки были галлами, мы были готовы сложить головы в окопах Первой мировой войны или же выслеживая североафриканских «сепаратистов» в алжирском Оресе (это было в 1954–1962 годах – читай, вчера). Такая судьба, стать либо рабочим, либо военным, устраивала 90 процентов молодых людей. Оставшиеся 10 процентов, относившихся к элите, продолжали образование как минимум еще семь лет, а потом начинали долгое восхождение по лестнице общественного признания и престижа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу