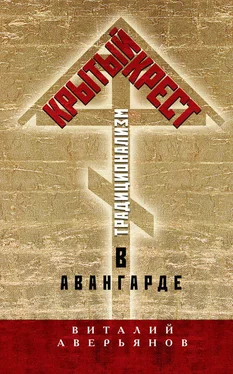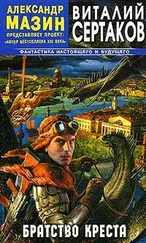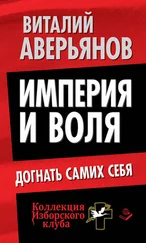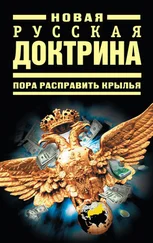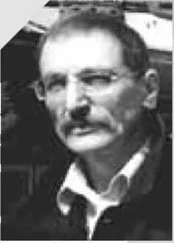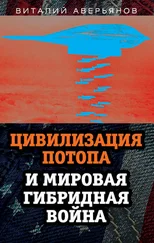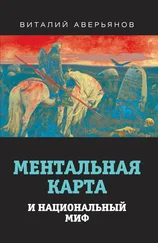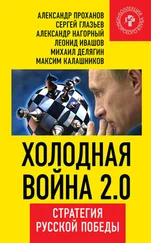Я бы не согласился с трактовкой Аристотеля как автора наиболее внятной системы логики, определившей лицо причинно-следственной парадигмы сознания, как Вы ее предлагаете называть. Оптимальность аристотелевского понятийного аппарата всегда подвергалась сомнению и существовала в жестком конкурентном окружении – и с платоническим и с пифагорейским аппаратами, если брать эллинистическую эпоху, не говоря уже об эпохе христианской (или исламской) или, тем более, не говоря о сложной и самобытной индийской логической традиции. В этом отношении аппарат Аристотеля в какой-то момент явился победителем в конкурсе, но это не значит, что он стал окончательным монополистом.
С одной стороны, рассуждая о Парижском споре, о науке как доказательстве верно найденной истины, Вы в этом пункте аранжируете известное суждение, что практика является критерием истины. Однако, с другой стороны, это кажущееся столь эффектным суждение лишено какой-либо очевидности. Недавний конфликт, связанный с выступлением папы Римского Бенедикта XVII, шел как раз вокруг этой проблемы. И хотя в СМИ эта тема освещалась недостаточно, для читавших оригинальный текст лекции папы Римского вполне ясно, что главный пункт претензии папы по отношению к исламу заключался в том, что у христиан истина логична, тогда как у мусульман она иррациональна. Это было основополагающим критическим и отталкивающим зарядом, который папа послал в адрес ислама. Другое дело, что это было обличено в форму буквальных исторических примеров. Исламская улица отреагировала именно на буквальные формулы, однако понятно, что за исламской улицей стояли исламские богословы и авторитеты, без мнения которых никаких волнений и протестов не произошло бы. А интеллектуальная элита в среде мусульман совершенно четко уловила этот глубинный посыл папы, этот вызов: что ваша истина иррациональна, а наша истина логична…
И завершая свое выступление, я хотел бы отреагировать на саму тему нашего семинара «Гуманитарная наука и высшие ценности российского государства». Тема сегодняшнего доклада «Мышление. Наука. Миропознание. Миростроительство» и сам доклада бросил в большую тему семинара очень хорошую закваску. Именно нам в России нужно вырабатывать такую модель, такую интеллектуальную формулу, которая позволила бы нам от дискретности, от ошарашенности инновациями и шокированности вызовами современности, начать переход к более гармоническому состоянию. К тому самому «синергийному традиционализму», о котором я говорил. Потому что выработка такой формы сознания и идеологии позволила бы мудрее отнестись и к ценностям новизны (инновациям и революциям), и к ценностям свободы (эмансипации), о которых сегодня шла речь. Ведь человеку важно не столько преодолеть в себе архаические парадигмы мышления, сколько научиться подпитываться из всех этих форм организации мышления: в том числе и из мифологичности и способности к вневременному прочтению знака, и из установки на гармонизацию и синхронизацию как построение человеческого острова посреди мировой неустойчивости, и из идеологически-поисковой формы мышления.Только в этом и будет заключаться настоящий синергийный эффект.
Об архетипах «исторической России»
(Авторская версия доклада на конференции в Мерано) [63] Впервые доклад напечатан в виде статьи в журнале «Свободная мысль» (2011, № 6).
В моем докладе речь пойдет о тех архетипах русской культуры и русской ментальности, которые имеют непосредственное отношение к вопросу о месте и смысле существования русских в глобальном мире и в условиях глобализации. Сама природа этой темы диктует религиозно-философский подход к ней в качестве определяющего.
В первой части доклада я скажу о его главных терминах, что само по себе во многом уже отвечает задаче раскрытия заявленной темы. Во второй – коснусь того, как вычленяются архетипы русской цивилизации не путем умозрительных построений, а путем опытного обнаружения накапливающихся в истории подтверждений их архетипичности. Забегая вперед, отмечу, что ключевой архетип, определяющий поведение русских в мире, может быть прочитан как проекция Халкидонского догмата в православии.
Начнем с понятия «архетип»,о котором следует говорить особо, поскольку часто имеет место некритическое усвоение теории архетипов коллективного бессознательного Юнга. Дело в том, что Юнг воспроизвел и развил в своей концепции лишь одну линию интерпретации архетипа. Существует древняя традиция сакрального понимания этого концепта, которая так или иначе ведет к констатации его непостижимости, поскольку предельным прообразом всех образов, с богословской точки зрения, является Творец.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу