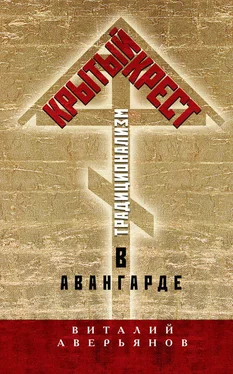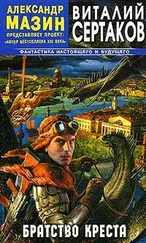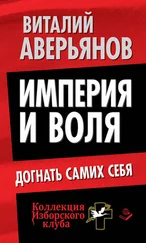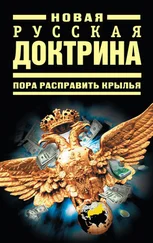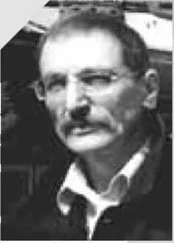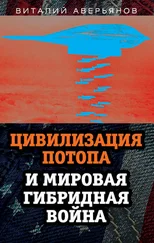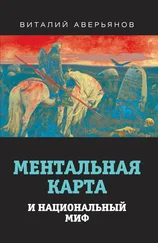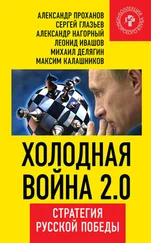В теологической метафизике Лосского учение о Священном Предании поднимается на такую высоту, что соединяется уже с учением о свободе. Предание, то, что дано человеку «извне», вдруг оборачивается его собственной внутренней свободой, раскрывается как его собственная самобытность.
3. О главном труде Владимира Лосского (Лосский и Мейстер Экхарт) [51] Впервые напечатано в альманахе «Волшебная гора», XI, 2005.
«Богословские труды» начали публикацию перевода одного из важнейших произведений В.Н. Лосского, его, по выражению С. Хоружего, «главной работы на темы западной мысли» [52] Лосский В.Н. Отрицательное богословие и познание Бога в учении Мейстера Экхарта (гл. 1–3) / Пер. Г.И. Вдовиной. // Богословские труды, сборники 38 и 39. – М„2003, 2004.
. По свидетельству епископа Василия (Кривошеина), Лосский задумывал этот труд как начало масштабного сопоставления немецкой мистики XIV века с современным ей афонским исихазмом: в ходе такого сопоставления должна была проявиться многоплановая близость двух этих типов мистической философии.
Сама по себе подобная постановка задачи свидетельствует о нетривиальном подходе Лосского к Экхарту как главе немецкой школы мистиков XIV в. Лосский усмотрел в Экхарте и положенной им традиции мистического богопознания тенденцию, ведущую прочь от схоластики к духу Дионисия Ареопагита (здесь и далее называем его без приставки «псевдо-» в угоду православной традиции – В.А.) и паламитской школе греческого богословия. Это тем более знаменательно, что в литературе об Экхарте долгое время доминировали споры на тему «пантеизм или трансцендентальный теизм», «томизм или неоплатонизм» и т. п. Резко расширяя контекст религиозно-философского творчества доминиканского магистра, Лосский тем самым выводит его в общехристианский философско-богословский простор.
В настоящий момент напечатаны три первые главы работы Лосского: «Имя неименуемое», «Имя всеименуемое», «Я есмь Сущий». В 4-й, еще не опубликованной главе работы, Лосский покажет решительное сближение Экхарта с Дионисием и соответственно отдаление его от Фомы Аквинского в том, что касается истолкования апофатического богопознания (апофаза не восхождения, а противопоставления, апофаза парадокса). В трех же первых главах Лосский сконцентрировался на нюансах апофатического и катафатического методов теологии в их экхартовском исполнении и наглядно показал черты уникальности и специфики немецкого духовного писателя. Эта уникальность выявляется в сопоставлении Экхарта со всеми его великими «партнерами», с которыми он вступает в собеседование на страницах своих трактатов и проповедей. В первую очередь это блаженный Августин, св. Иоанн Златоуст, св. Дионисий Ареопагит. Лосский показывает, как в различных аспектах своего богословия Экхарт выстраивает самостоятельную линию, время от времени не соглашаясь с признанными авторитетами. Так, например, в отношении бл. Августина это проявляется в трактовке мистического интростаза (не озарение через соприкосновение разума с богом-Истиной, как это выглядит у Августина, но погружение в интимное пространство «внутреннего человека», ориентация на область транс-психического, на поиск сокровенного Бога в глубинной основе личного сознания). В вопросе о «Едином» Экхартявно полемизирует с Дионисием и отходит от его концепции ближе к неоплатоникам: Единое выступает у него как иерархически высшее по отношению к Благу божественное имя, символизирующее мощь разума, который достигает ступени соединения всех атрибутов. Лосский не устает отмечать многочисленные отсылки Экхарта к Фоме Аквинату, что, тем не менее, лишь подчеркивает несходство их мировоззрений вопреки западной традиции «томистского» прочтения Экхарта (О. Karrer, Denifle, G. Thery).
Апофатическое богопознание у тюрингского доминиканца направлено на проникновение в область «енутреннейшего человека – препространнейшего, ибо он велик без величины». Одним из поразительных качеств Экхарта является связность той диалектики, которая складывается у него на уровнях микрокосма и макрокосма, а также стройность пропорций, который выстраиваются от внутрибожественной жизни (жизни Троицы) к происхождению творения.
Одной из издержек этого напряженного созерцания «таинственных соответствий» стало учение Экхарта о тождестве двух актов: внутрибожественного рождения Бога-Сына и сотворения мира. «Одно и то же речение изводит Слово и творит мир. Бог творит в Начале, т. е. в Себе Самом… Однажды сказал Бог и дважды слышал я это (Пс. 61, 12)». Сотворение мира выступает в этом учении как эхо троичного сотворчества, как своеобразное экранирование сокровенного в откровенном, экранирование внутрибожественных тайн во внешних эманациях. Именно это учение послужило одним из главных поводов к обвинению в ереси и было осуждено папой уже после смерти Мейстера Экхарта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу