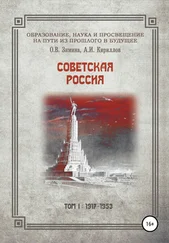Не секрет, что любое философское учение является реакцией (часто обостренной) на зашедшее в тупик философское учение. Явная недостаточность «субъективизма» ставит под ружье философских испытателей «объективизма», сомнительность «материализма» мобилизует «идеалистов», неудачи философов «становления» пополняют ряды защитников «бытия», теоретические усилия которых в свою очередь порождают новую волну апологетов «становления» и т. д. И хотя каждый из участников философских сражений стремится к примирению противоположностей и обещает придерживаться золотой середины, ретроспективно он все равно окажется в стане исповедующих очередной «изм» экстремистов, наподобие тех, которые вдохновляли его самого на поиски примиряющих решений. Действительно, если бы философских экстремистов не существовало, их нужно было бы придумать, как минимум, для того, чтобы вывести все мыслимые следствия из той или иной теоретической посылки. Испытание диалектикой – судьба философии, примирение противоположностей – ее горизонт, и маятник, по-видимому, обречен раскачиваться от «реализма» к «релятивизму», «сциентизма» к «антисциентизму», от «бытия» к «становлению».
Будем считать это оправданием постпозитивизма. Он – «всего лишь» философская реакция на (логический) позитивизм. Он раскрывается во всей полноте после, а именно тогда, когда становится очевидно, что обоснование науки, которое позитивизм склонен был считать исчерпывающим, в свою очередь нуждается в обосновании, что «рациональные критерии познания» не выдерживают рациональной проверки, что «абсолютно прочный» фундамент опыта и логики, на котором построено здание науки, заложен на зыбучих песках социально-психологических и историко-культурных обстоятельств [1] В отечественной философской традиции проблематика постпозитивистской философии науки обсуждается в работах: Антоновский А.Ю. Социоэпистемология: о пространственно-временных и личностных измерениях общества. М., 2011; Касавин И.Т. Социальная эпистемология. Фундаментальные и прикладные проблемы. М., 2013; Маркова Л.А. Наука на грани с ненаукой. М., 2013; Пружинин Б.И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии. М., 2009; Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001 (2-е изд. 2007); Мамчур Е.А. Образы науки в современной культуре. М., 2008; Микешина Л.А. Эпистемология ценностей. М., 2007; Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. М., 2002; Филатов В.П. Научное знание 2 и мир человека. М., 1989; и др.
.
Таким образом, постпозитивизм – это испытательный полигон перевернутых утверждений позитивизма. Получив мощнейший импульс от работ отцов-основателей этого направления Поппера, Куайна, Лакатоса, Фейерабенда, Куна по всему миру (поначалу преимущественно англоязычному, далее везде) заработало множество «философских цехов», в которых выковывались новые догмы постпозитивистской мысли. Под флагом «История и философия науки» (HPS) новые кафедры отправлялись в плавание по волнам смены естественно-научных парадигм и картин мира [2] Первая кафедра была создана в 1960 г. в Университете штата Индиана, США, усилиями Норвуда Рассела Хансона, который ее возглавил.
, «социальная эпистемология» формулировала принципы изучения науки как коллективной деятельности, такие программы как «Социология научного знания» (SSK), «Социальная конструкция технологии» (SCOT), «Культурологические исследования науки», «исследования науки и технологии» (STS) привлекали в свои ряды дипломированных философов, физиков, инженеров, биологов, которые проверяли на прочность дисциплинарные истины, «взвешивая их на весах социальной интерпретации», программа «История философии науки» (HOPOS) релятиви-зировала философский образ того, как должна выглядеть правильная наука. Оставляя пока в стороне многочисленные нюансы постпозитивистского движения, обозначим общую идею, которая руководила постпозитивистами: если до сих пор не найдены строгие эпистемологичкские критерии, которые позволили бы отличить знание и науку от «просто мнения», значит, «объективной науки» в принципе не существует. Все силы постпозитивизма были брошены на разработку этого тезиса. «Факты», которые в позитивизме «решали все» в постпозитивизме были поставлены в зависимость от «ценностей», «интересов» и прочей изменчивой социальной «материи». Если в глазах позитивистов все «ценности» оставались за порогом научной лаборатории, кроме, пожалуй, универсального «этоса ученых», основное назначение которого состояло в том, чтобы не препятствовать «фактам», то для постпозитивистов лаборатория становится местом, где «факты» изготавливаются как пирожки согласно принятой рецептуре («научной теории»), причем последняя отнюдь не подчиняется единому стандарту, а зависит от…. далее можно подставить следующее: личных предпочтений, «коллективного бессознательного», «духа времени», «императивов интерсубъективного пространства», политики, наконец, техники. Например, как пишет один современный исследователь, когда входят в употребление приводные механизмы, создаются предпосылки для преодоления теоретического разрыва между прямолинейным (конечным) и круговым (бесконечным) движением [3] См. об этом Фройденталь Г. Возникновение механики: марксистский взгляд. – Эпистемология и философия науки. 2009. № 3. С. 14–40. Автор связывает как причину и следствие практику использования приводных механизмов, конвертирующих прямолинейное движение в круговое, и новое понимание движения, выраженное, в частности, в трактате Джованни Бенедетти, в котором Бенедетти утверждает непрерывность прямолинейного движения на основании перевода кругового движения в прямолинейное посредством геометрической схемы.
, а «научные факты» начинают свидетельствовать в пользу того, что между покоем и равномерным прямолинейным движением нет никакого различия. Иными словами, так называемая «объективность», с точки зрения постпозитивистов, будучи историческим продуктом коллективного научного сознания, выражает реалии «жизненного мира», которые подчиняются своей собственной «логике» (не подчиняются никакой логике?).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
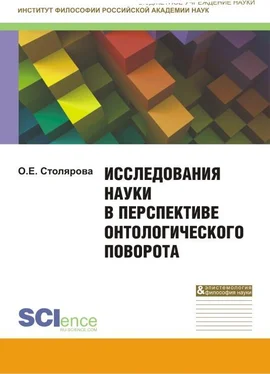
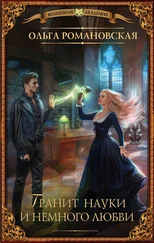
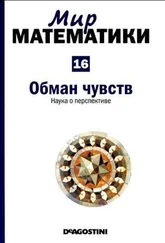





![Ольга Романовская - Гранит науки и немного любви [litres]](/books/429155/olga-romanovskaya-granit-nauki-i-nemnogo-lyubvi-li-thumb.webp)