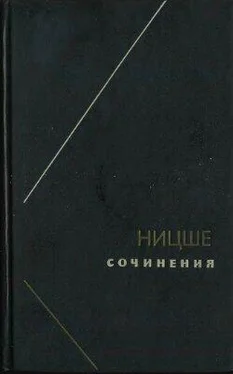Проблема психопатологии у Ницше, породившая в своё время (и всё ещё продолжающая порождать) такое количество вздорно-сенсационной и — в меньшей степени — вдумчиво-осторожной литературы, начинается, если угодно, уже в этом пункте; нет никакой надобности сводить её к злоупотреблению “ хлоралом ” или — того хуже — к рассчитанной на бюргерский трепет леверкюновской мистико-физиологии, чтобы объяснить случившееся; если здесь позволительно говорить о патологии, то не иначе как с самого начала и не иначе как имманентным самой мысли образом. Приведённая выше фраза Ницше — подчеркнём это: уже сошедшего с ума — из письма к Якобу Буркхардту лучше, а главное, точнее разъясняет проблему, чем весь разгоревшийся вокруг неё литераторский сыр-бор; да, он охотнее остался бы славным базельским профессором, нежели стал бы Богом — мы поверим ему на слово; весомость этого слова он оплатил юдолью всей своей жизни, — но случилось так, что “ профессор ” увидел нечто такое, чего не видели другие профессора, — скажем по-пушкински: “ одно виденье, непостижное уму ” — или скажем ещё словами того головокружительно-просветлённого объяснения между Заратустрой и жизнью: “И я сказал ей нечто на ухо, прямо в её спутанные, жёлтые, безумные пряди волос. — “ Ты знаешь это, о Заратустра?
Этого никто не знает””, — если вписать это событие в неповторимую полноту контекста личности самого “ профессора ”, в знакомое ему с детских лет предчувствие особой судьбы, судьбы избранника, ещё раз — в знакомый ему с детских лет поразительный дар жить в возвышенном (“Кто не живёт в возвышенном, как дома, — обронит он впоследствии, — тот воспринимает возвышенное, как нечто жуткое и фальшивое”), в третий раз — в знакомую с детских лет атмосферу едва ли не инстинктивно усваиваемой правдивости и честности (мальчиком он услышал из уст одной из своих тёток: “Мы, Ницше, презираем ложь”) [9] E. Foster-Nietzsche, Op. cit..1.Abt. Bd 2. S.73
и ещё во многое другое — “ ницшевское ”, — то сумасшествие, настигшее “ последнего ученика философа Диониса ” в Турине 3 января 1889 г., окажется самым устойчивым фактом всей его жизни, “Ich bin immer am Abgrunde” — всегда на краю пропасти… Дон-Кихот? Как вам будет угодно — но уберите отсюда трогательную sancta simplicitas, любого рода потешность и право каждой посредственности на снисходительное понимание; да, Дон-Кихот — но с непременной оглядкой на каждый свой шаг, но умница и беспощадный “ самопознаватель ”, палач самого себя (“Selbstkenner! Selbsthenker!” — будет сказано в “Дионисовых дифирамбах”), но только и занятый очищением авгиевых конюшен в себе и вне себя (“Моё сильнейшее свойство — самопреодоление” KSA 10,112), но способный в любое мгновение сбить с толку своего “ Сервантеса ”, который и понятия не имеет о том, куда ещё увлечёт его героя, — прибавьте сюда и то, что “ ветряные мельницы ” оказываются вдруг не мельницами вовсе, а самим злом, перемалывающим ум и совесть, и что нападающий на них “ сумасброд ” во всех отношениях знал, на что он посягает.
“Европе понадобится открыть ещё одну Сибирь, чтобы сослать туда виновника этой затеи с переоценкой всех ценностей” (Письмо к Г. Брандесу от 13 сентября 1888 г.). “ Событие ” Фридриха Ницше — оп разглядел в идеализме и во всякой морали “ мошенничество высшего порядка ”(KSA 6,327). Исходной интуицией предстал феномен греческой культуры, досократической и уже сократической. Иначе, речь шла о самой жизни и целом сонме “ прилганных ” (hinzugelogen) к ней дрессировщиков и исправителей. Мудрость досократических греков выражалась в том, что, будучи ближе всех к оргиастическому источнику и избытку жизни, а стало быть, к хаосу и безумию (лик Диониса, кровавого бога бьющего через край экстаза), они противопоставляли ему, а точнее, сшибали с ним формообразующую пластику солнечных сил, световые стрелы Аполлона, дабы в самом средоточии единоборства обоих божеств сотворить себе некий артистический ковчег спасения; при этом о победе или поражении не могло быть и речи — человеческое существование временно оправдывалось искусством , как вооружённым нейтралитетом обоих божеств, больше того, оно подтверждало жизнь самим фактом её художественной интенсификации . В этом смысле феномен эллинского артистизма оказывался не богемной прихотью, а едва ли не физиологической потребностью, неким небывалым кунстштюком торжества над жизнью не в ущерб ей, а в наивысшее подтверждение. Это трагическое мировоззрение впервые на греческой почве было разложено Сократом (и его драматическим alter ego — Еврипидом); с Сократа начинается неслыханная тирания разума и морали, вытеснившая жизнь в бессознательное и подменившая её инструкциями по эксплуатации жизни. Чем можно было победить жизнь, не стоя перед нею лицом к лицу, а в обход?
Читать дальше