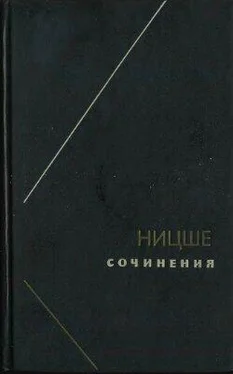Самой, говоря вслед за ним, одинокой… Уходя из дома учёных, он уходил не в вагнеровский пессимизм, как могло бы поначалу показаться ему самому, ни даже в традиционно понятую Freigeisterei (вольнодумство); будущее “ льва ”, сбросившего с себя шлак “ верблюда ”, оказывалось в этом случае просто неисповедимым. “Юмор моего положения в том, что меня будут путать — с бывшим базельским профессором, господином доктором Фридрихом Ницше. Чёрта с два! Что мне до этого господина!” (Письмо к М. фон Мейзенбуг от 26 марта 1885 г.). Написанные после “Рождения трагедии” “Несвоевременные размышления” (из планируемых двадцати увидели свет только четыре) предстали некой учтивостью “ льва ”, расстающегося со своим прошлым, но и не без “ ex ungue ”; таковы прощальные композиции Шопенгауэру и Вагнеру, таково блистательное покушение на Давида Штрауса, “филистера культуры” (“Я нападаю только на те вещи, против которых я не нашёл бы союзников, где я стою один — где я только себя компрометирую”.KSA, 6, 274). Впереди простирались считанные годы неисповедимого: “научно-мёртвый” дух музыки, которому предстояло ещё доказать первую бурю юношеского вдохновения действительно родившейся из него трагедией.
Правы те профессиональные философы, которые пожимают плечами, или разводят руками, или делают ещё что-то в этом роде при словосочетании “философия Ницше”. Он совсем не философ в приемлемом для них смысле слова. Кто же он? Говорят: он — философ-поэт, или просто поэт, или философствующий эссеист, или лирик познания, или ещё что-то! Пытаются даже систематизировать его труды по периодам: романтико-пессимистический (от “Рождения трагедии” до “Человеческого, слишком человеческого”), скептико-позитивистический (до — отчасти — “Весёлой науки” и “Так говорил Заратустра”) и, наконец, собственно “ ницшеанский ” (последние произведения). Возразить против этого было бы нечего, даже напротив, это могло бы вполне отвечать сути дела при условии, что искомой оставалась бы как раз суть дела. Философия такого ранга и масштаба, как ницшевская, всегда есть рассказ о некоем “ событии ”, и если правила систематизации и таксономии распространяются на горизонтальную перекладину рассказа, то лишь в той мере, в какой она пересечена вертикальной перекладиной названного “ события ”.
Чтобы составить себе теперь некоторое представление о “ событии ” Фридриха Ницше, можно обратиться к следующему сравнению: некто, заглянув в недоступную многим глубину, узрел там нечто, настолько перетрясшее его мозги и составы, что итогом этого стала новая оптика, как бы новый орган восприятия вещей. “Я словно ранен стрелой познания, отравленной ядом кураре: видящий всё”(KSA, 8, 506). Оглянувшись затем вокруг, он не мог уже застать ничего другого, кроме сплошных несоответствий виденному. Если исключить совершенно немыслимый в данном случае конформизм притворства, а равным образом и всяческую богемность как возможные и наиболее вероятные формы реагирования на диссонанс, то останется именно казус Ницше — “больше поле битвы , чем человек” (Письмо к П. Гасту от 25 июля 1882 г.). “Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки, как от открытой раны” — придётся расширить судьбу музыки до судеб культуры, до планетарных судеб, чтобы получить пронзительный, как сирена , аварийный лейтмотив ницшевского “ события ”. Почтеннейший Ричль едва ли способен был догадаться, какую чудовищную алхимию претерпит в этой душе профессиональная филологическая выучка: работа над источниками и эрудиция! “Мы не какие-нибудь мыслящие лягушки, не объективирующие и регистрирующие аппараты с холодно расставленными потрохами, — мы должны непрестанно рожать наши мысли из нашей боли и по-матерински придавать им всё, что в нас есть: кровь, сердце, огонь, весёлость, страсть, муку, совесть, судьбу, рок”(KSA, 3, 349).
Да и только ли Ричль; недоумения росли горой, лопаясь в годах разрывами отношений или формальной консервацией прежней дружбы; ещё раз: простить можно было что угодно, любую выходку распоясавшегося остроумия при условии, что ему, по существу, нипочём “ Гекуба ”, та самая “ Гекуба ”, вокруг которой и разыгрывается маскарад свободомыслия. Странным образом оказалось, что этой мысли, обязанной, так сказать, ex professo заниматься “ Гекубой ” во исполнение научного долга, ни до чего другого нет дела и в самой жизни; профессионально прочитанный Сократ предстал даже не Prugelknabe Сократом, а злейшим личным врагом, с которым надо было непременно свести счёты, обнаруживая при этом не меньшую страсть и пылкость, чем этого мог потребовать чисто светский кодекс чести(См. Второе дополнение). Интервал в двадцать пять столетий сплющивался до… вчерашнего дня; перед открытой кровоточащей раной бессмысленной выглядела любая “ давность сроков ”, и в свете лозунга “Вся история, как лично пережитая , — результат личных страданий” (KSA, 12, 400), возникала ситуация небывалого риска, меньше всего рассчитанная на адекватное восприятие и понимание, больше всего — на кривотолки и удобнейшую подозрительность, где отнюдь не худшим из подозрений смогла бы показаться аналогия с бессмертной выдумкой Сервантеса [8] Характерная запись, относящаяся к осени 1872 г. “Дон-Кихот” — одна из вреднейших книг” (KSA, 8, 130)
.
Читать дальше