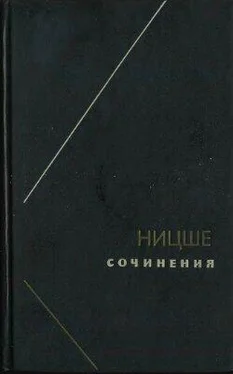Символичной — не только в жизненных, но и в посмертных судьбах — оказывалась и двойная фамилия: ницшеанство ближайших десятилетий, можно сказать, всей первой половины нашего века правильнее было бы назвать не ницшеанством собственно, а неким фёрстер-ницшеанством; Бернгард Фёрстер — “зять”, и ещё раз отнюдь не “любимый”, — подвёл окончательную черту в отношениях брата и сестры. Гимназический учитель в Берлине, сделавший антисемитизм профессией и чуть ли не призванием, он начал свою карьеру с того, что задевал и даже избивал евреев на улице; женившись на Элизабет Ницше в 1885 г., он переехал с нею в Парагвай, где молодожёны, спасаясь от “еврейского засилья”, вознамерились основать “Новую Германию”, некий химерический аналог пуританских утопий XVII в. Антисемитизм, сыгравший в своё время немаловажную роль в разрыве отношений между Ницше и Вагнером, был, возможно, последней каплей, переполнившей чашу терпения в отношениях с сестрой, на этот раз “мстительной антисемитской дурой” (die rachsuchtige antisemitische Gans) (Письмо к М. фон Мейзенбуг в мае 1884 г.). Д-р Фёрстер, запутавшись в многочисленных финансовых махинациях, покончил самоубийством — в год болезни Ницше; оставалась сестра — Фёрстер-Ницше, — олицетворявшая самой этой двуфамильностью многочисленные духовные махинации, которые надолго определили участь ницшеанства.
Махинации не прошли незамеченными. Уже Фриц Кёгель, талантливый редактор первого полного издания, доведший публикацию до 12-го тома включительно, ознаменовал свой протест уходом из Архива; речь шла, в частности, о каталогизации заметок, относящихся к 80-м гг., — заметок, которым с уходом Кёгеля суждено было обернуться пресловутой компиляцией “Воли к власти”, этой чистейшей фальшивки, сыгравшей столь решительную роль в псевдоидеологизации ницшевского мировоззрения. Первый тревожный сигнал, оповестивший мир о том, “в чьих руках оказалось наследие Ницше”, исходил от Рудольфа Штейнера, долгое время работавшего в Архиве и отказавшегося стать редактором заведомо фальсифицируемых материалов; если бы к этим предостережениям, датированным 1900 г. (год смерти Ницше), отнеслись с должным вниманием, то не пришлось бы дожидаться сенсационного издания Карла Шлехты (1956), рассредоточившего так называемую “Волю к власти” и вбившего осиновый кол в плакатно усвоенное нацифицированное ницшеанство.
Задача была проста и в простоте этой рассчитана на безошибочный эффект: сотворить из недавнего истребителя кумиров нового и во всех смыслах отвечающего спросу эпохи кумира. Эпоха, погрязшая в пресностях обязательного рационализма и в его мещански-бытовых проекциях, требовала лакомств и обжигающих приправ, какого-то непременно героического и непременно трагического духовного анекдота, короче, некой “ дионисической ” компенсации своего карикатурно-аполлонического благополучия — стресса, готового выдержать любые издержки ради чаемой остроты ощущений. Расчёт оказывался дьявольски проницательным: коммерческий Ницше, омещаненный Ницше, Ницше, поданный на манер толстовской “Крейцеровой сонаты”, в гостиной “ с мороженым и декольтированными дамами ”, действительно и уже в объёме всего творчества сошедший с ума Ницше, ибо зачитанный до дыр, хуже — принятый, хуже — по-своему понятый и обоженный… “ базарными мухами ”, настоящий повелитель мух, слетающихся на всё сладкое в мирное время и готовых обернуться весёлыми бестиями в час бойни и смут, — таков был спрос, таков был вкус, и такова отвечающая вкусу и спросу цель.
В каком-то смысле подлог выглядел пустячным делом; провокаторская натура стиля , впечатляя позициями фронта , оставляла без присмотра тыл, так что труднейшее для понимания оказывалось одновременно легчайшим для профанации. “ Идеальный монолог ” (см. выше) только и мог быть рассчитан на “идеального слушателя ”; слушатели, увы, были более чем реальны — и язвительная реплика Ницше об оглуплении христианской идеи в христианах в полной мере оборачивалась против него самого, претерпевшего невообразимый эффект оглупления в ницшеанцах. Не было ничего проще, чем вытравить из текстов музыку, страсть и личность и предоставить тексты самим себе как сплошной бумбум, как свирепую оргию взбесившихся инстинктов, как безвкуснейший философский канкан, разжигающий интеллектуальную похоть образованного обывателя и западающий в память рядом профанированных символов. Если утрудить себя сопоставлением и сравнением двух текстов — сфабрикованной “Воли к власти” и восстановленных в первоначальной последовательности тех же отрывков, — то качество и масштабы случившегося поразят воображение.
Читать дальше