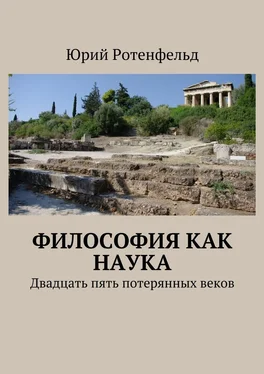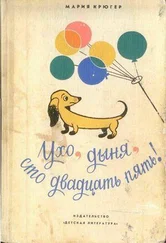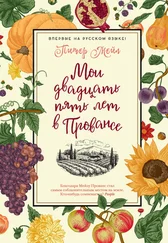«…в мире сем тленном
Нет никакого рожденья, как нет и губительной смерти:
Есть лишь смешенье одно с размещеньем того, что смешалось,
Что и зовут неразумно рожденьем темные люди.
Что бы за смесь ни явилась на свет: человек или птица,
Дикий ли зверь или куст, – все равно неразумные люди
То происшедшим зовут; когда ж разрешится на части
Тленная тварь, то губительной смертью они прозывают» 34 34 Там же.
.
Не приняв в полной мере идею Гераклита, связывающую «сходящееся» с «расходящимся» законом сдвоенных весов, Эмпедокл тем самым потерял самодвижение бытия. Поэтому взаимодействие осмысляется и персонифицируется им как явно мифологические силы – как Любовь и Вражда:
«То влекомое Дружеством, сходится все воедино,
То ненавистной Враждой вновь гонится врозь друг от друга» 35 35 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях… С. 354.
.
Космогония Эмпедокла, таким образом, строится, видимо, как постепенный переход от господства Любви к господству Вражды наподобие того, как у Гераклита соотносится сходящееся и расходящееся, что обусловливает у него бесконечное циклическое движение. Ни один мыслитель того времени так и не смог подняться до осмысления этого природного процесса, тем более, до отражения его в понятии.
Анаксагор(ок. 500 – 428 до н. э.) – родом из Клазомен. От его сочинений до нас дошли 20 фрагментов. Из них видно, что учение Анаксагора формируется под влиянием двух противоборствующих философских течений: ионийской натурфилософии и учения элеатов. Подобно Пармениду и Зенону, он отрицает возможность превращения одного качества в другое, ибо
«никакая вещь не возникает и не уничтожается, но соединяется из существующих вещей и разделяется».
Это положение неопровержимо было «доказано» элеатами благодаря парадоксам «Ахиллес» и «Дихотомия». Однако эти доказательства не убеждают Анаксагора отказаться от признания истинности, как самого движения, так и многообразия конкретных, чувственно воспринимаемых вещей. Для него реально существуют отношения, которые не выходят за рамки понятий милетской и пифагорейской натурфилософии: «больше» «меньше», «равно», «противоположно», что определяет понимание «единого» как отношение должника и кредитора.
Анализируя эти отношения, Анаксагор обращает внимание на принцип дихотомического деления, который элеаты используют в парадоксах «Ахиллес» и «Дихотомия» и приходит к убеждению в объективном существовании бесконечного актуального самоделения сущего на подобные части.
Так, рассматривая, например, горячее и холодное, образующие непрерывный ряд, Анаксагор находит между ними положение равновесия, промежуточное, которое делит этот ряд на две противоположные части: горячую и холодную. Само же промежуточное, относительно горячей стороны – холодное, а относительно холодной стороны – горячее. Это значит, что промежуточное, как учил Гераклит, и Анаксагор был с ним в этом согласен, содержит в себе и горячее и холодное, поскольку оно соотносится не с одной, а с двумя противоположными сторонами. Но между промежуточным и, например, холодным концом существует второе промежуточное, которое делит уже эту часть на две части, подобные предыдущим двум частям. При этом и второе промежуточное противоречиво. А поскольку дихотомическое деление идет до бесконечности, постольку единое непрерывно и состоит из бесконечного множества противоречивых сущностей. При этом деление происходит не по воле мыслящего субъекта, как это может показаться на первый взгляд. Напротив, оно обусловлено природным процессом – самопроизвольным делением и движением противоположностей к положению равновесия, как в «едином», так и во всех его частях.
Анаксагор приходит к мысли о том, что «в малом не существует наименьшего, но всегда имеется еще меньшее». И какую бы мельчайшую частицу мы не рассматривали, всегда между ее противоположными сторонами есть промежуточное свойство, которое делит эту частицу («вещь», «семя» – как их называл Анаксагор) на две еще меньшие части. Причем это деление осуществляется не шаг за шагом, как мы это только что описали, а происходит одновременно, сразу, как в «едином», так и во всех его частях, т.е. актуально.
«Бесконечное, – пишет Аристотель, – есть непрерывное по соприкосновению частиц. /И Анаксагор Ю. Р./ … утверждает, что любая из частей есть смесь, подобная целому…» 36 36 Аристотель. Т.3, С. 110.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу