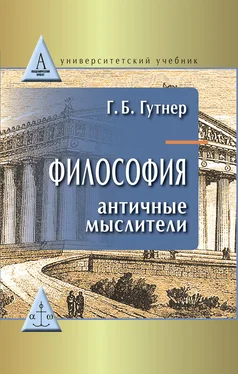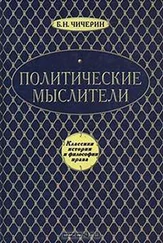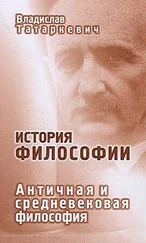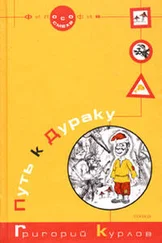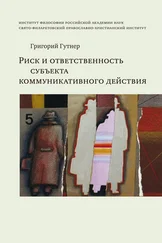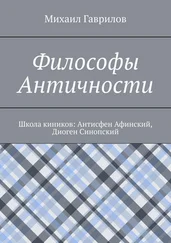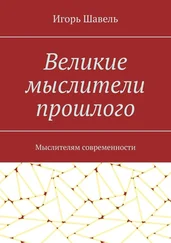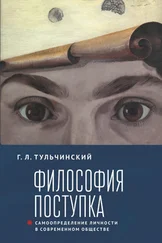Прежде всего, собеседники обнаруживают беспредельность существующего единого. В самом деле, каждая его часть едина и существует. То есть она, подобно целому, включает и единое, и бытие, т. е. также состоит из двух частей. Но по поводу каждой из этих частей необходимо сказать то же самое. Процедуру деления можно продолжать до бесконечности. Иными словами, допущение «единое существует» приводит к заключению, что существует также и беспредельное множество. Причем существует, т. е. причастна бытию, каждая часть этого множества.
Далее собеседники обнаруживают, что существующее единое с необходимостью порождает число. Их рассуждение при этом таково. Бытие и единое, будучи различны, обладают этим свойством (отличаться от другого) не в силу своей собственной природы, а благодаря причастности иному. Следовательно, чтобы мыслить различие этих двух (единое и бытие) мы должны ввести в рассуждение нечто третье, а именно иное. Так перед нами возникает начало числового ряда. Каждая из рассматриваемых идей есть нечто одно. Далее, мы можем брать их попарно: единое и бытие, единое и иное, бытие и иное. Так получается двойка. Обратим внимание на этот ход мысли. Почему участники диалога не попытались дедуцировать двойку раньше, ограничившись указанием, что бытие и единое, различаясь, образуют пары? По-видимому, потому что для представления о двух недостаточно одной единственной пары. Два есть то, что присуще многим парам.
Вспомнив теперь, что каждый член найденных пар есть нечто одно, мы можем добавить это одно к любой из пар, не включающих его, образовав таким образом тройку и, соответственно, число три. Теперь уже возможно выстраивание последующего числового ряда, описание операций сложения и умножения, введение понятий четного и нечетного. В итоге, вместе с понятием числа мы вновь получаем бесконечное множество, на этот раз как бесконечную последовательность чисел. Последнее есть «бесконечная множественность существующего», поскольку существование любого числа необходимо (Парменид. 144 а).
Итак, из одного единственного допущения «единое существует» мы двумя разными способами получили вывод, что существует бесконечное множество. Из этого следует важный вывод для бытия. Оно должно быть присуще каждому элементу этой бесконечной множественности, т. е. само раздроблено на бесконечное множество частей. Но точно также раздроблено и единое, присутствуя в каждой части бытия. Получается, следовательно, что единое перестает быть целым, а значит и единым [62] Заметим, что этот аргумент схож с одним из доводов против учения об идеях, приводимых в первой части диалога.
. Участники диалога подводят промежуточный итог своего рассуждения так: «…существующее единое есть, надо полагать, одновременно и единое, и многое, и целое, и части, и ограниченное, и количественно бесконечное» (Парменид. 145 а).
Заметим, что ограниченность вытекает здесь из целостности. Ведь из самого понятия целого следует, что оно охватывает свои части и, следовательно, ограничивает их (Парменид. 144 е).
Следующий сюжет, рассмотренный в диалоге, представляет собой анализ понятия целого. Здесь также не обходится без парадоксов.
С одной стороны, единое, понятое как целое, – «это и есть все его части: не более и не менее как все» (Парменид. 145 с). Но если части составляют целое и охватываются им, то целое есть то же самое, что все части взятые вместе. Таким образом, единое (понятое как целое) пребывает в себе самом. Посмотрим теперь на это с другой стороны. Целое не находится в одной своей части или в некоторых частях. Нет такой части, в которой содержалось бы всё целое. Но раз оно не находится ни в одной из своих частей, то оно не находится и во всех. Поскольку же части составляют целое, то оно не находится в себе самом. Однако так как оно существует, то должно же где-то находится. Следовательно, оно находится в чем-то другом.
Итак получается, что единое и находится, и не находится в себе самом, находится в себе и в другом. Но этой констатацией дело не ограничивается. То, что находится в себе, никуда не выходит и всегда остается в том же самом (Парменид. 145 е). Иными словами оно всегда покоится.
То, что находится в ином, чем оно само, напротив, всегда движется.
«Итак, – подытоживают собеседники эту часть рассуждения, – всегда находясь в себе самом и в ином, единое должно всегда и двигаться, и покоиться» (Парменид. 146 а).
Заметим, однако, что в диалоге дается намек на разрешение этого парадокса: «…поскольку единое – это целое, оно находится в другом, а поскольку оно совокупность всех частей – в самом себе» (Парменид. 145 е).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу