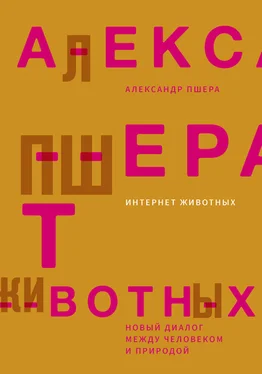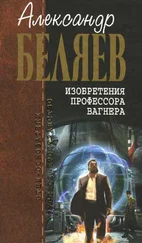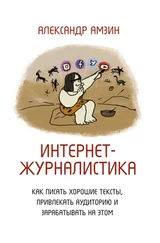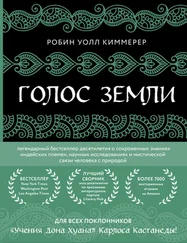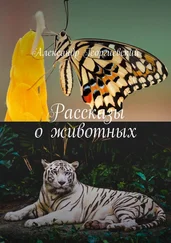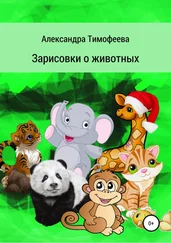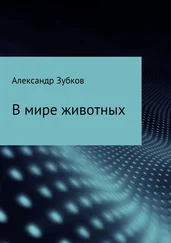Можно, конечно, задать вопрос: а что это за исследователи такие, если они всю жизнь только и сравнивают в интернете узоры на акульей коже, ловят лягушек и вшивают им передатчики, вместо того чтобы обратиться к самой природе и наблюдать за нею при помощи доступных средств? Что ж, для нас натуралист сохранил свой романтический образ: сидит себе часами в маскировочной палатке, не сходя с места, и с ангельским терпением ждет, когда зверь наконец покажется из чащобы. А тот, кто мудрит с техникой и отслеживает на мониторе красные и синие сигналы, на первый взгляд имеет мало общего с Конрадом Лоренцем, Карлом фон Фришем или Бернхардом Гржимеком. Он, скорее, похож на инженера, чуть ли не на врага природы, на сухого технократа, впрочем дружелюбного по отношению к животным. Но ведь исследователям именно ради такого отношения приходится использовать сегодня совсем не те методы, что всего 20 лет назад.
Звери испытывают все большее давление из-за негативного вмешательства человека в окружающую среду. Речь уже не идет о том, чтобы предоставить их самим себе и мечтать о такой природе, какая тоже существует сама по себе, закрытая для человека, где-нибудь на Амазонке или в горах Непала. Поступать так – большое заблуждение. Человек должен заботиться о диких животных, обеспечивать их существование в окружающей среде, раз уж он сам ее изменяет. А для этого требуются технологии, которые не предоставят зверя случайностям, а будут отслеживать весь его жизненный путь. Итак, новый зоолог использует технику из чистой и безоговорочной любви к животным. Для него техника – средство подлинного сближения. Появлению новой природы предшествует появление нового типа ученого, обладающего иными, нежели естествоиспытатель былых времен, компетенциями и интересами. Для него природа и техника уже не составляют противоположности, он верит, что новый облик природы мы можем создать лишь при помощи новых дисциплин. Тем самым ученый нового образца подкрепляет предположение Гумбольдта о взаимодействии всех природных сил 48. Александр фон Гумбольдт высказывал эту мысль лишь умозрительно и литературно, вне пределов определенной научной сферы, и для доказательства он не имел ни возможностей, ни инструментов. Зато теперь технические средства, о каких Гумбольдт не мог и мечтать, подтверждают ее и делают наглядной.
Но как можно применить мысль о связи всего живого, владевшую великим ученым, здесь и сейчас? Какие вопросы волновали бы сегодня самого Гумбольдта? По всей вероятности, он обратил бы внимание на следующие факты. Первый – это более глубокое понимание биологического разнообразия планеты, его запаса и взаимосвязей. Второй – связь между людьми и всем опытом животного мира, накопленным в процессе эволюции. Третий – это цифровое сохранение всех видов в виртуальной памяти, в глобальной «биопамяти», что поможет сложиться принципиально новым отношениям между человеком и животным.
Мартин Викельски – это Гумбольдт цифрового мира, прототип исследователя новых времен. Викельски разбирается в авиационной и космической промышленности, в телекоммуникационной технике, равно как и в социальном поведении летучих мышей и фрегатов. Чтобы прочувствовать тот огромный путь, какой проделала зоология за последние 50 лет, следует вспомнить, что Викельски как директор Института орнитологии Макса Планка, расположенного на Боденском озере, является преемником Конрада Лоренца. Этих двух ученых, при всех различиях, объединяет ранний, возникший еще в детстве интерес к природе. Викельски описывает начало пути, приведшего его к интернету животных , так: «Я вырос в маленькой баварской деревеньке и, конечно, всегда поддерживал связь с животными и природой. Мне, мальчику, разрешали выгонять коров моего деда на пастбище, а потом пригонять домой. Сколько себя помню, я был уверен, что выберу профессию, связанную с природой. Желание изучать биологию я почувствовал в пятом или в шестом классе благодаря замечательному учителю, который сумел мне объяснить, почему в 1977 году в Баварию прилетели цапли откуда-то с юга» 49. Вопросы, волновавшие Мартина Викельски в юности, не перестают занимать его и сегодня: «Как и прежде, я хочу понять, куда улетали ласточки, которых я, 15-летний подросток, окольцевал в хлеву у моего дедушки. Через год они вернулись и вновь обосновались в нашей деревне, причем их было довольно много. Куда они улетают? Что с ними происходит, какие трудности они преодолевают? Это и сегодня одна из самых сложных загадок».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу