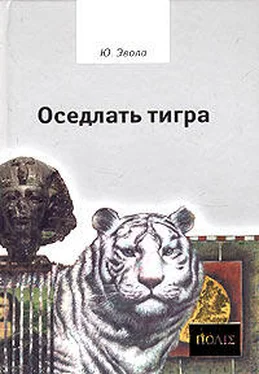30. Смерть. Право на жизнь
В нашем исследовании экзистенциализма мы уже указывали на хайдеггеровское понимание существования как «жизни к смерти». Смерть становится здесь своего рода центром тяжести, поскольку именно на неё переносится возможность достижения абсолютного смысла существования, «здесь-бытия»; отчасти это напоминает религиозную концепцию жизни как приготовления к смерти. Но мы видели, что все предпосылки, на которых строится философия Хайдеггера, придают этому завершению конечного существования в смерти безусловно негативный — экстатически негативный — оттенок.
Однако это не отменяет того особого значения, которым обладает идея смерти для интересующего нас здесь типа человека. Напротив, в некотором смысле она является для него пробным камнем. В этом отношении речь также идёт о том, насколько им овладел — возможно даже за порогом его обычного повседневного сознания — тот образ восприятия, который экзистенциально сложился у современного человека в целом благодаря как комплексным инволюционным процессами, так и концепциям, свойственным господствующей теистической религии.
Первое испытание, которое необходимо пройти перед лицом смерти, концом «личности», естественно состоит в том, чтобы доказать свою неподверженность тому экзистенциальному страху, чтобы испытать который, по мнению Хайдеггера, напротив, следует «обладать мужеством», и устраниться от любого рода потусторонних перспектив и оценок, которые в популярных формах религий используются для управления индивидом, воздействуя на подсознательную часть его души.
В этой области в современном мире также можно обнаружить отдельные процессы распада, потенциально обладающие двояким значением. Свой вклад в избавление души от ужаса перед смертью внесли не только атеизм и материализм, но целая серия коллективных катастроф последнего времени, которые также значительно ослабили трагическое отношение к смерти. Сегодня умирают более легко и просто, нежели вчера, и по мере обесценивания прежней значимости и важности индивида в современном механизированном мире масс, человеческой жизни также стали придавать всё меньшее значение. Вдобавок к этому, ковровые бомбардировки, применявшиеся в последней войне, от которых без различия страдали как военные, так и мирное население, заставили многих относиться к смерти даже близких людей как к чему-то, что составляет неотъемлемую часть естественного и привычного порядка вещей, почти с тем же чувством, с которым некогда воспринимали потерю каких-либо внешних, материальных благ, и ощущение бренности жизни, неуверенности в завтрашнем дне также стали частью привычного порядка вещей.
В большинстве случаев это приводит к некому отупению, которым, вероятно, только и можно объяснить странную переоценку страха перед смертью, свойственную Хайдеггеру. Однако здесь не стоит исключать возможность противоположного положительного выхода из этой ситуации, которая открывается в том случае, если испытания подобного рода способствуют обретению внутреннего покоя, который обретает человек, преодолевший индивидуальный уровень и свободный от привязанностей физического «Я». В античности Лукреций функционально и прагматично использовал то, к чему отчасти пришло современное естествознание в мире, лишенном Бога, чтобы изгнать страх перед потусторонним миром; хотя олимпийская идея божественного сохранялась, он рассматривал богов как отрешенные сущности, которые не вмешиваются в мирские дела и для мудреца являются лишь идеалами онтологического совершенства.
Таким образом, в этом отношении современный мир открывает перспективу, имеющую положительную ценность для человека особого типа, поскольку в современной атмосфере разложение также затронуло преимущественно близоруко-антропоцентричное, гуманистическое мировоззрение. Следовательно, для него «созерцание смерти» может стать положительным фактором, позволяющим ему измерить И оценить собственную внутреннюю стойкость. Здесь можно вспомнить хорошо известное древнее правило, советующее воспринимать каждый день как последний день в своей жизни. Причём эта перспектива близкой смерти не должна поколебать его спокойствия, изменить ход его мыслей и действий. Примером подобного отношения к смерти могут служить лётчики-смертники, камикадзе, которые иной раз на протяжении долгого времени, зная, что в любой момент могут быть призваны для выполнения полета без возврата, продолжали заниматься обычными делами, тренировками, развлечениями, не видя в этом ни малейшей трагедии, не испытывая гнетущего чувства безысходности. В более широком смысле, в том, что касается смерти, речь идет о преодолении внутренней границы, об освобождении от уз. В некоторой степени это возвращает нас к тому, о чем говорилось в первой главе. Рассматриваемое нами позитивное contemplatio mortis [31] Созерцание смерти (лат.). — Прим. ред.
заставляет человека отрешенно относится к перспективам собственного выживания или смерти, в некотором смысле, позволяет ему оставить смерть позади себя. Но это ощущение близости смерти никоим образом не парализует его, напротив, оно открывает ему высший, возвышенный и свободный образ жизни, пронизанный своего рода магическим, светлым опьянением.
Читать дальше