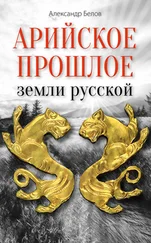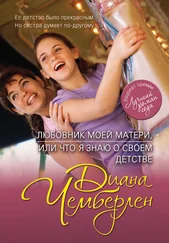Хьюстон Чемберлен - Арийское миросозерцание
Здесь есть возможность читать онлайн «Хьюстон Чемберлен - Арийское миросозерцание» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Арийское миросозерцание
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Арийское миросозерцание: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Арийское миросозерцание»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Арийское миросозерцание — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Арийское миросозерцание», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
13. МЫШЛЕНИЕ И РЕЛИГИЯ
Довольно измерить всю глубину преобладания внутреннего момента в индоарийском мышлении, чтобы понять, сколь тесным родством это мышление связано с религией.
В самом деле: ставить индусскую философию, как "чистую, систематическую философию", в ряд с системами Аристотеля, Декарта или Канта было бы ребячеством; точно так же, как было бы легкомысленно ставить религию Вед на одной высоте с христианской. Но в одном отношении духовный уровень индоарийцев стоит недосягаемо выше нашего: именно, поскольку там философия была религией, а религия — философией. У нас мысль и чувство, вначале как пара близнецов мирно почивавшие в лоне человеческого сознания, достигнув зрелого возраста, отошли друг от друга, точно два совершенно чуждые существа: враждебно стоят они друг против друга. С этим должен согласиться всякий, сколько-нибудь одаренный и независимый ум. Если же они приходят в соприкосновение, как, например, в схоластике, или (на другом конце скалы) в позитивизме; тo у каждого из них одно стремление: подчинить другого и заставить служить себе. "Разделение труда" — прекрасный и достохвальный жизненный принцип, но к сожалению вторгается прежде всего в самую глубь нашей собственной личности и насильственно разрывает ее пополам; и настолько, что эти половинки, хотя и стремятся потом друг к другу, как в рассказе у Аристофана, порою даже находят одна другую, но слиться воедино уже не могут никогда.
Этим единством обладал еще индусский философ, но греческий уже не обладал. Было бы печально, если бы высокое развитие отдельных проявлений нашей расщепленной деятельности лишило нас способности хоть издали восхищаться и ценить неподражаемую силу и красоту явления целостного и законченного в себе.
Эта слитность религии и философии сделала возможным нечто, чего в этом приходиться сознаваться с горечью — в нашей культуре почти нет: в Индии не нашлось бы ни одного человека столь низкого духовного уровня, чтоб он мог оказаться совершенно невосприимчивым к философии; и ни на какой высоте дерзновенный полет мысли исключительно одаренного не отнимал у него пламень «религиозности». Тайного учения в Индии не существовало; это утверждение, которое часто приходится слышать, покоится на недоразумении. Но разве глубочайшее познание не остается для всех нас и без того тайною? Разве не ясно для всякого, что различные способности разных людей составляют бесконечную лестницу ступеней, где открытое одному остается сокрытым от другого? Но это нечто совсем иное, чем тайны кабалистики. Индоарийское мышление и чувство, медленно и органически возникая в сердцах и умах целого народа религиозных мыслителей, выросло в такой изумительный пластический организм, что оно могло в одинаковой мере удовлетворять самым разнородным духовным запросам (тем запросам, которые исходили из среды избранного, чисто арийского народа): разнородным поскольку это касается относительных притязаний мышления и чувства (философия и религия), разнородным также по отношению к "личному уравнению" мышления (если позволительно так выразиться); потому что в Индии трансцендентальные идеалисты, идеалисты типа Беркли, реалисты, материалисты, философы-скептики все братски уживались между собою — уживаются еще и в наше время — и в пределах одних и тех же основных религиозных взглядов. "В стране этой во все времена царствовала абсолютная свобода мысли", говорит профессор Гарбе. И нужно заметить, что здесь речь идет не о той свободе, которую мирянин постепенно отвоевывает (как это происходит у нас) у противоборствующего духовенства. Но что эта "абсолютная свобода мысли" есть в то же время одна из органических составных частей индоарийской религии, из которой свобода эта рождается естественно, непротиворечиво, беспроблемно. Оттого-то религия и является там носительницей науки, которая без свободы мысли существовать не может. Все достижения индоарийцев, в области математики, филологии и т. п., неизменно связаны с их гносеолого-религиозными представлениями.
Ничего подобного мы не находим у себя. У нас всякая истинная наука и всякая истинная философия находятся в исконной борьбе с религией. Если же борьба иной раз временно и затихает, то здесь играет роль или практическая необходимость примениться к данным обстоятельствам на почве обоюдной систематической неустойчивости в мышлении и а поступках, или же сознательное и рассчитанное ханжество. Если в некоторых слоях нашего населения и сохранилась религия, то Богу ведомо, сколь безуспешно было бы искать там хоть каких-нибудь проблесков мысли; у философов же наших мы или совсем не находим религии, или только ее маску. О большинстве же наших образованных людей приходится сказать без преувеличения, что нет у них ни религии, ни философии: они подобны существам некогда крылатым, у которых оба крыла отрезаны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Арийское миросозерцание»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Арийское миросозерцание» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Арийское миросозерцание» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.