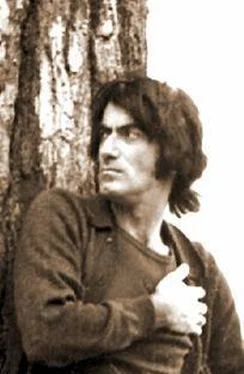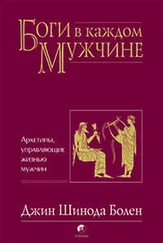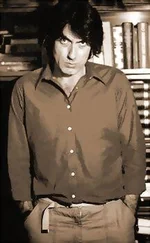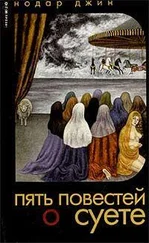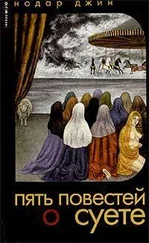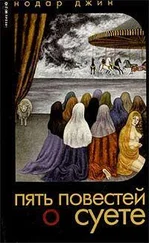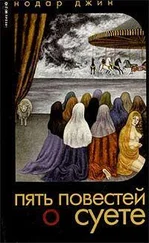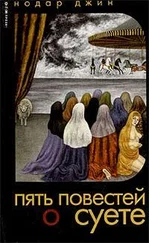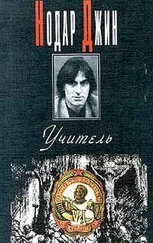Кстати, это обстоятельство находит весьма интересное выражение в самом искусстве. Его историческое существование отмечено параллельным развитием двух как бы обособленных линий: линия натуралистического воссоздания жизни (т. е. комплекс мумии) и линия ее схематического преображения (комплекс схемы, воплощающейся в создании абстрактных форм жизни — орнамент и др.). Можно насчитать огромное количество вариантов и переплетения и взаимопроникновения, но, тем не менее, каждая из них легко различима. Нельзя ли эту особенность художественного развития общества рассматривать как своеобразное выражение указанного обстоятельства? Нельзя ли рассматривать комплекс мумии в русле психологически обусловленного стремления к сотворению «двойника» жизни, тогда как т. н. схематическую линию считать выражением «узаконенной» творческой активности человека, стремления ее распространиться за пределы существующих жизненных форм?.. [195]
Тем не менее наивно считать, будто преднаэначение искусства и заключается полностью в мобилизации человеческой энергии для реального и «сиюминутного» вмешательства в процесс преобразования мира. Как логический, так и генетический анализ убеждает в способности художественной деятельности выравнивать человеческое сознание с миром, т. е. гармонизировать социальные процессы личности в обществе также и сугубо символически, причем этот момент более непосредственно связан с вопросом психологической «оправданности.» искусства. Вряд ли стоит специально доказывать, что исторически искусство зародилось и складывалось не только как «репетиционная» деятельность, но одновременно и как «самостийная». Смысл искусства определялся не только аккумуляцией сил, необходимых для освоения «грубого мира». Не только даже психологической подготовкой к этому процессу освоения. Искусство само снимало «отчужденность» природы. Наскальные изображения охотничьих «сюжетов» не только предвосхищали соответствующее реальное действие, т. е. реальное освоение мира, — они сами по себе выравнивали с ним сознание человека. Образ человеколицего солнца конкретизирует не только интерес к непонятному, отчужденному от человека объекту, не только стремление к его объективному познанию, но и «свершившееся» освоение этого объекта, его выравнивание с конкретными, сиюминутными возможностями сознания. И хотя это выравнивание имеет сугубо символический характер, оно, повторяем, обретает в процессе переживания реальный смысл.
Все это так, но сегодня важнее ответить на такой вопрос: является ли символическая функция искусства сущностной? Если поначалу существование искусства психологически «оправдывалось» также и его способностью символического выравнивания человека с миром, то сохраняется ли со временем потребность в ном? Является ли т. н. символический момент логически обусловленным? Не является ли и исторически преходящим в структуре генеральных психологических установок на искусство?
При необходимости можно было бы показать, что история теоретического осмысления искусства характеризуется постепенным обострением интереса к названному вопросу, причем это обострение идет параллельно развитию объективно-познавателыных возможностей человека. Что касается нынешнего момента, нынешней эпохи триумфального прогресса науки, эпохи «радикальной эволюции» общества, то в целом вопрос предлагается воспринимать как решенный. Именно так, вероятно, и можно расценивать отсутствие серьезного противодействия идее окончательного изживания «символического» значения искусства, которая как у нас, так и за рубежом утверждается в разных вариантах.
Предполагается, что резкое углубление и расширение объективных представлений о мире снимает необходимость сугубо символического (мифологического, как иногда говорят) преодоления «отчужденности мира», его символического выравнивания с созданием. Как-то, рассуждая о генезисе литературы, Э. Золя сказал: «между тем, что было уже познано, и тем, что еще не было познано, образовалась обширная территория, которую следовало оккупировать. Эту задачу взяла-де на себя литература» [10, 117]… Однако предполагается, что с каждым днем границы этой территории сужаются. Кстати, именно так и выразился американский философ Э. Шлоссберг: «Искусство — это пропасть между тем, что мы знаем, и тем, о чем мечтаем. Но эта пропасть быстро исчезает по мере быстрого обращения наших мечтаний в точные знания» [26, 69].
Читать дальше