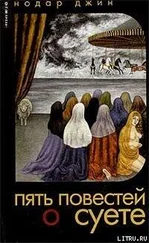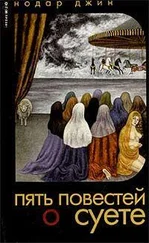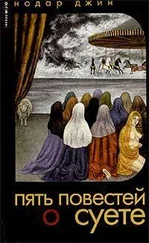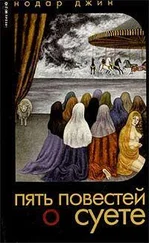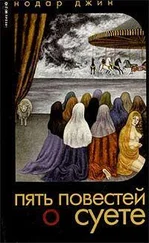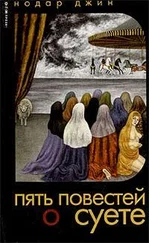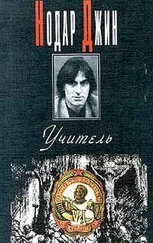Нодар Джин - Философское
Здесь есть возможность читать онлайн «Нодар Джин - Философское» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Философское
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Философское: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Философское»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Философское — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Философское», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Какой мир не должен существовать? Какой должен? Второй вопрос Маркузе попросту опускает, ибо ни теоретический, ни практический опыт ответа на него не может впечатлять. Правда, иногда в подобных случаях Маркузе заводил речь об обществе, которое сам же называл «величайшей утопией», об обществе, которое должно отказаться от традиционного человеческого типа и наличных форм его наличного бытия, отвергнуть их так же, как нравственность, которой одо обязано своим происхождением и основанием… «Эстетической реальностью стало бы общество как произведение искусства». Примечательно, что если еще совсем недавно эту «величайшую утопию» Маркузе считал «радикальнейшей возможностью освобождения», то уже в новом эссе он пытается быть сдержаннее, и потому позитивный пафос своей программы стремится выразить лишь в отрицании. Однако, как и прежде, отрицание получается у него механическим, анархическим, формально-логическим, абсолютным, абстрактным, экстремистским. «Выдающийся диалектик» забывает, что любое отрицание должно быть диалектическим, причем забывает умышленно, обвиняя самого Маркса в том, что тот-де отрицал «недостаточно радикально».
Стремясь к радикальности, Маркузе договаривается до поэтического абсурда: «Притяженность к искусству может существовать лишь в мире, где люди будут наслаждаться бесконечной печалью Бетховена и Малера, ибо эта печаль будет подавлена и обезврежена в царстве свободы».
Где же оно находится, это царство? Как придти туда? Маркузе знает лишь где оно не находится и знает, что и западный, и восточный пути «ведут на туда». Он уподобляется грозному персонажу из старой сказки, который велел герою «пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что».
Марксистский социализм, по мнению Маркузе, не сможет обеспечить искусству будущее, ибо-де он не отрицает начисто старую, «темную» культуру, а, наоборот, развивает ее. Свет, хочет сказать Маркузе, может быть лишь там, где отвергнута тьма. Но ведь, как остроумно записано в ленинских «Философских тетрадях», «в чистом свете столь же мало видно, как в чистой тьме». [101]Идея социализма развилась из суммы человеческих знаний, и именно в этом смысле она является отрицанием устаревшего принципа жизни, как такого опыта, который помимо прочего уже не способен «терпеть» красоту и искусство. С другой же стороны, являясь развитием (революционным) всей предшествующей культуры, социализм, разумеется, далек от мысли вместе с водой выплескивать и ребенка: он не может отрицать основные, проверенные историей нравственные заповеди, лучшие откровения гуманистической воли, подлинные представления о красоте. Социализм не может не сознавать того, что истины, если даже они старые, не перестают быть истинами.
Что же касается маркузинского «радикального» социализма, то именно он, а не реальный, «марксистский», социализм оказывается на поверку уступчивым: когда Маркузе, заботясь о судьбах искусства, с одинаковым пафосом отрицает и «аффирмативный Запад», и «аффирмативный Восток», он, по существу, ставит между ними знак тождества и уже с «черного хода» выходит на популярную идею тотальной конвергенции.
Парадоксально: именно экстремизм, который расценивается обычно «шагом влево», и подтолкнул Маркузе вправо. Спонтанный бунт, породивший у него анархический образ лучшего, эстетического, мира и обусловивший его критику реального социализма, и является по существу первым широким шагом вправо. Второй подобный шаг — это неожиданное благословение и оправдание откровенно эскапистского искусства.
Восстание против формы, рассуждает Маркузе, имеет долгую историю; со временем этот процесс должен был подвести к идее, которая поднята на щит нынешней конформистской эстетикой, к идее полного отречения от формы. Однако этот путь приведет «к самоуничтожению искусства, ибо оно но может осознать себя без представления о себе как о фору даже тогда, когда хочет предстать в наиболее „реальном“. „живом“ облике. Поэтому восстание против формы — это иллюзорное преодоление отчуждения искусства от жизни».
Здесь совершенно справедливо Маркузе подозревает даже большее: «Весь этот шумный поход против формы, против буржуазного истэблишмента с его традиционным искусством, — не является ли он, в свою очередь, частью буржуазного эскапизма, своеобразной формой индустрии развлечения, не есть ли все это такая же музейная культура?»
Когда, например, т. н. «живой театр», стремящийся якобы уйти от ненавистного истэблишмента с его традиционным представлением о форме искусства, «уничтожает дистанцию между актерами, аудиторией и аутсайдом и утверждает близость, идентификацию с актерами и их сообщениями, он ведь тем самым вводит негацию в повседневный универсум и в результате заставляет воспринимать ее как естественный, легкопостижимый и даже радостный элемент этого универсума». Негация, отрицание становится, по мнению Маркузе, частью представления, разновидностью игры, в результате которои «иллюзия скорее усиливается, чем уничтожается».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Философское»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Философское» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Философское» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.