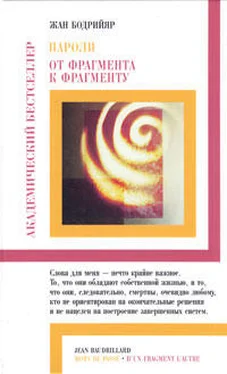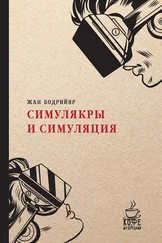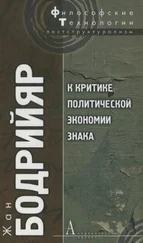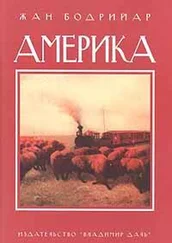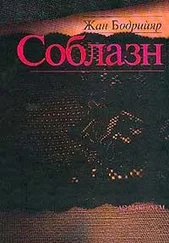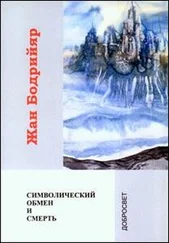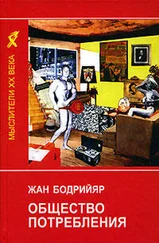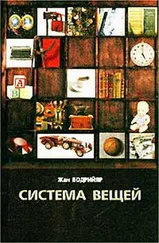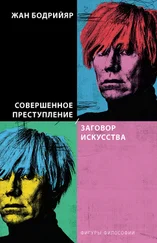Вселенная фрактала — вселенная бесконечная… В ситуации с фотографией, к примеру, наличествует своего рода фатальность серийного, связанного с самой природой фотоаппарата. Он стремится функционировать без конца, и в результате любой снимок чреват снимком следующим — съемку всегда можно продолжить. Фотоаппарат как бы требует от нас данного продолжения… Чем это оборачивается? В первую очередь головокружительными процессами рассеивания сингулярного. Ибо любое техническое устройство предполагает как раз режим бесконечного рассеивающего повторения, и фотоаппарат отнюдь не является исключением… Сегодня избавить фрагментарное от всего того, что ему навязано, — значит остановить поток, неистовый поток сериации. Только тогда нам откроются пустота, пробел, незаполненность, о которых мы говорили. Но в состоянии ли мы осуществить эту остановку?
Вероятно, сталкиваясь с дуальностью, с отношением чистой противоположности, а значит, со своего рода неустойчивостью, неравновесностью мира, мы испытываем значительные неудобства. Во всяком случае, когда в процессе исследования начинает властно заявлять о себе феномен «двух», мыслители обычно либо стремятся вернуться к «одному», к некой невыразимой синкретичности, либо пытаются выйти к «трем», к тринитарности, будь то христианская Троица или гегелевское «Aufhebung» (диалектический синтез)…
Нам надо стараться постоянно поддерживать неравновесие вещей, И в первую очередь важно избегать стремления примирять все на свете, хотя мы, действительно, и в теории, и на практике неизменно озабочены соединением различных элементов. Однако, как говорил Станислав Ежи Лец, «никто никогда не спрашивал у тезиса и антитезиса, а согласны ли они соединиться в синтезе». Необходимо оставить тезис и антитезис в покое, необходимо дать им жить их собственной жизнью, необходимо отказаться от ориентации на единство вещей. Мы должны культивировать разрывы, в том числе и в области мышления, в наших концептуальных построениях. Безусловно, это очень непросто, безусловно, всем нам, не исключая и меня, день за днем приходится испытывать на себе мощное воздействие парадигмы примирения или превышения [ dépassement ]… Данная парадигма, если угодно, «естественна» для дискурса, но отсюда следует, что мы всякий раз обязаны пробивать в нашей дискурсивности бреши, чтобы не препятствовать порождающему противоречия, антагонизмы злу выполнять свою работу.
Мыслителю, иными словами, нельзя поддаваться искушению диалектизации мира… В ваших текстах совершенно отсутствуют призывы к спасению, нам, как вы подчеркиваете, нечего спасать и не на что надеяться. Нет ничего, что мы якобы потеряли и что мы должны были бы вновь обрести, — именно к такому выводу приходишь в результате знакомства с вашей концепцией зла…
Начало зла получает свою определенность в рамках оппозиции несчастью. В качестве противоположности добру оно гораздо более двусмысленно; в данном случае у термина «зло» появляется некая романтическая, более того, демоническая и, следовательно, отмеченная религиозностью коннотация… В этой ситуации очень трудно избежать того, чтобы не принять установок своего рода сатанинского, прямо скажем далеко не продуктивного, дискурса…
Речь идет об искушении, с которым часто не мог справиться Батай… Мне вспоминается его парадоксальное, случившееся в Кафедральном соборе Реймса — здесь мы опять оказываемся в вашем родном городе, — обращение в католическую веру, при том что ранее он принял твердое решение разрушить ее до основания… Его никогда не оставляло желание трансгрессии, и он всегда жил надеждой на спасение. Что, кстати, явилось одной из причин критики его взглядов Сартром во время знаменитого «Диспута о грехе» у Марселя Море [130] * Тексты выступлений были опубликованы в журнале «Dieu vivant» (4-e cahier, 1945), а затем в кн.: Bataille G. Oeuvre complètes. Paris: Gallimard, 1973. T. 6. Марсель Море, весьма разносторонний «нонконформист тридцатых», имел в Париже, на набережной Межиссери, нечто вроде салона. Именно там, в его владениях, и состоялся в марте 1944 года «Диспут о грехе», своеобразная философско-теологическая конференция, посвященная «Четырнадцати основным тезисам» Жоржа Батая о «добре и зле в связи с сущим или сущими» и аргументам, выдвинутым против этих тезисов иезуитом и будущим кардиналом Жаном Даньелу. В развернувшейся достаточно энергичной дискуссии приняли участие такие разные по духу мыслители, как Пьер Клоссовски, Луи Массиньон [Massignon (1883–1962) — французский ориенталист, исследователь исламской мистики. — Примеч. пер . ], Морис де Гандийяк [de Gandillac (p. 1906) — французский философ, ведущая тема его творчества — взаимоотношение различных типов дискурса в истории философии. — Примеч. пер . ], Артур Адамов [Adamov (1908–1970) — французский драматург русского происхождения, эволюционировал от трагического символизма к политическому реализму. — Примеч. пер . ], Жан Ипполит [Hyppolite (1907–1968) — французский философ, неогегельянец, переводчик и комментатор работ Гегеля. — Примеч. пер . ], Пьер Бюржелен [Burgelin (1905–1985) — французский философ, занимался проблемами гуманизма в христианской антропологии. — Примеч. пер . ], Жан-Поль Сартр и другие.
…
Читать дальше