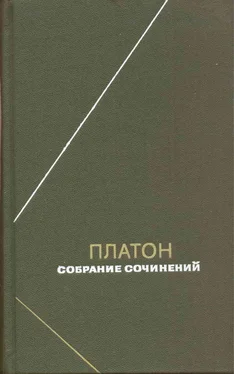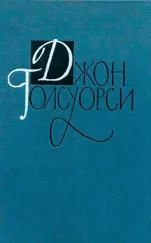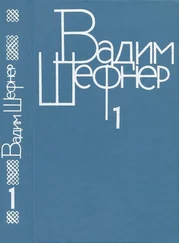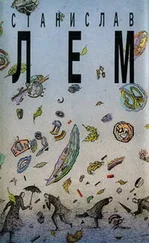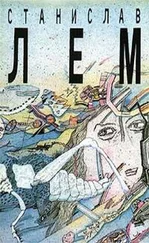Божественный удел и одержимость, по Платону, присущи не только поэтам (Ион 534с – 536d), но и всякий человек «причастен божественному уделу» (Протагор 322а). Исступление (о котором выше – 99с – говорит Сократ), или неистовство, дает нам величайшие блага, «когда оно уделяется нам, как божий дар» (Федр 244а). В «Государстве» (VI 493а) проводится мысль, что и в общественной жизни «божественный удел» спасает человека. Это вполне соответствует рассуждению (в данном месте диалога «Менон») о «вдохновении» и «провидении» государственных людей. Ср.: Ион, прим. 14.
Одиссея X 494 сл. О Тиресии см.: Алкивиад II, прим. 17.
Здесь – типичная для гераклитовца Кратила теория от природы каждой вещи присуще «правильное» имя, а люди по договору условились называть ее по своему, и имя тем самым уже не соответствует вещи («до говорившись» – συνθεμένοι здесь не обязательно понимать буквально. Вероятно, это просто указание на условность всякого обозначения с точки зрения звуковой).
Намек на то, что имя Гермоген (букв.: «рожденный Гермесом», «потомок Гермеса») никак не соответствует облику и сущности Гермогена. Гермес – бог покровитель житейской удачи, торговли, ловкости, и Гермоген, практически совершенно беспомощный, никак не может носить имя, имеющее такое значение.
Сократ несколько видоизменяет известную пословицу (см. Гиппий больший, прим. 37). Таким образом, старинное изречение о том, что все прекрасное по своей природе создается с трудом, Сократ истолковывает по-своему: познать прекрасное трудно.
См.: Апология Сократа, прим. 9 и Протагор, прим. 52.
Здесь Сократ снова шутит, на сей раз по поводу имени Гермогена, как бы подхватывая шутку Кратила (см. прим. 2).
Гермоген в отличие от Кратила выражает распространенный среди софистов взгляд, что главное в вопросе об именах – это договоренность о том, как называть вещь. Правильности имени от природы не существует, она – результат договора (иначе говоря, правильность всегда и во всем относительна, условна и субъективна).
Рабы чужеземцы, носившие имена, звучавшие «варварски» для греческого уха, часто получали от своих хозяев новое имя (см., например, Протагор 310с).
См.: Евтидем, прим. 32.
См.: Менон, прим. 6.
Евтидем – современник Сократа, хиосец, поздний софист, по своим воззрениям близкий Калликлу и Полу (см.: Горгий); Платон называет его именем диалог. См. также: Евтидем, преамбула.
Здесь перевод греческого είδος. См.: Евтидем, прим. 18.
В ориг. ίδεα; ср.: Евтифрон, прим. 18.
См.: Ил. XX 73-74.
Гомер. Ил. XIV, 240—291 (здесь и в прим. 15 «Илиада» цитируется в переводе Η. И. Гнедича).
См.: Гомер. Ил. II 813—814:
Смертные люди курган тот высокий зовут Батиеей,
Вечноживущие боги – могилой проворной Мирины.
Ср. о «сторуком великане» в «Илиаде» (I 403):
Имя ему Бриарей у богов, у людей же – Эгеон
В диалоге «Федр» (252b) Платон приводит стихи (видимо, им самим сочиненные) о разных наименованиях Эрота: Люди прозвали его самого Эротом крылатым,
Боги ж – Птеротом, за то, что расти заставляет он крылья.
Новое имя получает человек, ставший бессмертным, например, в «Одиссее» (V 333—335):
Кадмова дочь Левкотея, прекраснолодыжная Ино,
Тут увидала его Сначала была она смертной,
Ныне же в безднах морских удостоилась божеской чести.
(Пер. В. В. Вересаева)
Троянский герой Гектор, сын царя Приама, имел сына Астианакта (он же Скамандрий), погибшего еще ребенком при взятии Трои грека ми.
Здесь у Платона неточность, возможно необходимая для хода рассуждений Сократа. В «Илиаде» (VI 402 сл.) прямо говорится:
Именовал его Гектор Скамандрием, все остальные – Астианактом.
(Пер. В. В. Вересаева)
Платон как бы забывает об этом месте и помнит только XXII 506:
Астианакт как ребенку троянца, прозвание дали.
(Пер. В. В. Вересаева)
Объяснение этимологии имени «Астианакт» дано у Платона несколько ниже, 393а (см. также прим. 18).
Древние не различали звука и буквы. О классификациях букв (звуков) и слов см. Тронский И. Μ. Указ. соч.
Читать дальше