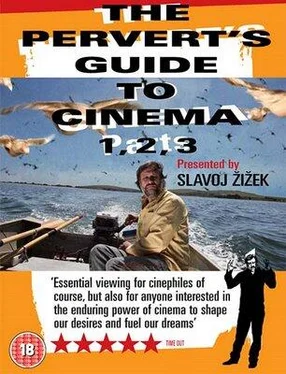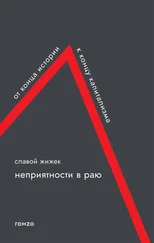Итак, при анализе содержания фильмов Тарковского мы столкнулись со сложной дилеммой: существует ли расхождение между идейным замыслом режиссера (привнести смысл, породить новую духовность посредством акта бессмысленного жертвования) и его кинематографическим материализмом? Обеспечивает ли кинематографический материализм Тарковского "предметный коррелят" к показу духовных исканий и жертвования? Или же он скрытно подрывает киноповествование? Конечно же, существуют убедительные аргументы в подтверждение первого положения: давняя обскурантская, спиритуалистическая традиция восходит к образу Йоды в фильме Лукаса "Империя наносит ответный удар" - мудрого карлика, обитающего в темном болоте; погибающая в запустении природа постулируется как "предметный коррелят" духовной мудрости; мудрый человек принимает природу как движение вперед, он отвергает всякую попытку насильственного вмешательства в природу и ее эксплуатацию, всякое насаждение в ней искусственного порядка. С другой стороны, что произойдет, если мы истолкуем кинематографический материализм Тарковского иначе, если интерпретируем предложенное им жертвенное деяние как самое элементарное идеологическое действие, как отчаянный способ побороть бессмысленность бытия его же методами, т. е. привнесением смысла, преодолением невыносимой Непохожести бессмысленной космической вероятности через деяние, которое само по себе чрезвычайно бессмысленно? Эта дилемма проявляется в том, как двояко Тарковский использовал естественные звуки природной среды - их статус онтологически неопределенный, они как бы приглушенная часть "спонтанной" текстуры не-воображаемых (non-intentional) природных звуков и при этом уже так или иначе "музыкальны", демонстрируя глубочайшую духовно структурированную первооснову. Кажется, что сама природа чудесным образом начинает говорить, неясная и хаотичная симфония ее шепота переходит в совершенную музыку. Эти волшебные моменты, когда сама природа как бы совпадает с искусством, конечно же, поддаются обскурантскому истолкованию (мистическое искусство духа, различимое в самой природе), но могут быть истолкованы и в противоположном, материалистическом смысле (происхождение смысла из природной случайности).
См. главу XVIII в книге: J. Lacan. The Ethics of Psychoanalysis, London, Routledge, 1992.
См. J. Butler. The Psychic Life of Power, Stanford: Stanford University Press, 1997, p. 47.
Разве не сталкиваемся мы здесь с тем же двойным отрицанием, что и в Марксовом товарном фетишизме? Сначала товар лишается своей материальной автономии и сводится к средству, которое воплощает общественные отношения; затем эта схема общественных отношений проецируется на товар как непосредственное материальное достояние, словно товар сам по себе имеет определенную стоимость или же деньги сами по себе являются неким универсальным эквивалентом.
Возможно, это парадоксальное двойное отрицание помогает нам распознать разрушительный потенциал мазохистского соглашения: в нем отрицание второго уровня сведено на нет, т. е. раб открыто принимает положение раба, и по мере того, как он попадает во все большую рабскую зависимость, он все более (вос)принимает свое положение как положение автономного агента; таким образом (на уровне "провозглашающего субъекта"), он действительно заявляет о себе как об автономном агенте. Отсюда проистекает, что в мазохизме взамен рабства под маской автономной деятельности мы имеем автономную деятельность под маской рабства.
С. Лем. Солярис. М., 1987, с. 42.
Я привожу здесь формулу Тони Хоу (Tonya How; University of Michigan, Inn Arbor) из ее превосходной письменной семинарской работы "Solaris and the Obscenity of Presence".
J.-A. Miller. "Des semblants dans la relation entre les sexes", in La Cause freudienne 36, Paris, p. 7-15.
Цит. по: A. de Vaecque. Andrei Tarkovski. Cahiers du Cinema, 1989, p. 108.
Op. cit., p. 110.
Op. cit., p. 98.
См. C. Lefort. Ecrire. A l'epreuve du politique, Paris: Calmann-Levy, 1992, p. 32 - 33.
См. A. de Vaecque, op. cit., p. 81.
К. Маркс, Ф. Энгельс. "Манифест Коммунистической партии", М., 1986, с. 36.