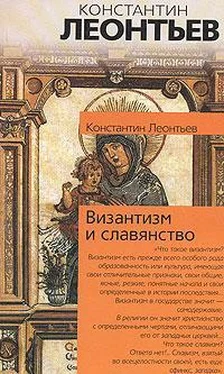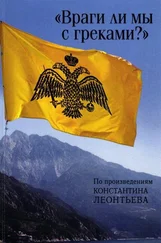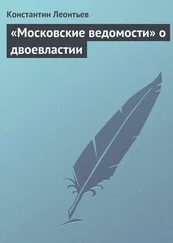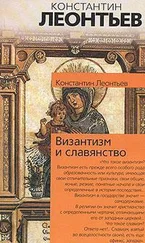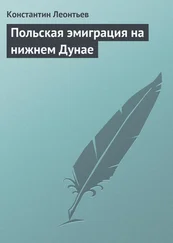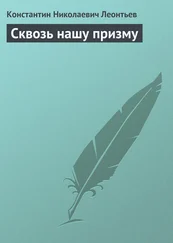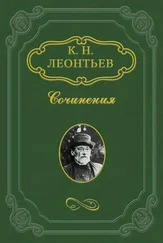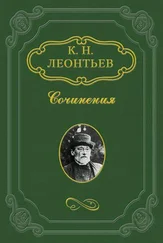После Кабе, Прудона и Герцена обратимся к англичанину Дж. Стюарту Миллю, который всего ждет от своеобразия и разнообразия людских характеров, справедливо полагая, что при разнообразии и глубине характеров и произведения ума, и действия людей бывают глубоки и сильны. Его книга «О свободе» именно с этой прямой целью и написана; ее бы следовало назвать не «О свободе», а «О разнообразии».
Милль сделал это или из осторожности, полагая, что в таком более обыкновенном и простом названии будет более приманки современной рутине, или он и сам ошибся, считая необходимым условием разнообразного развития характеров полную политическую и полную бытовую свободу ; устранения всех возможных препятствий со стороны государства и общества. Как англичанин со стороны государства он спокоен; но нападает на деспотизм общественного мнения, на стремление нынешнего общества «сделать всех людей одинаковыми» .
«Общественное мнение в Англии – это не что иное, как мнение среднего класса, – говорит он. – В Соединенных Штатах это мнение большинства всех людей белой кожи ; во всяком случае большинство есть не что иное, как собирательная бездарность (une médiocrité collective)».
«Все великое, – говорит он в другом месте, – было в истории сделано отдельными лицами (великими людьми), а не толпою».
Эпиграфом своей книги он ставит ту же мысль о необходимости разнообразия , которую первый выразил Вильгельм фон Гумбольдт в давным-давно забытой и почти неизвестной книге «Опыт определить границы влияния государства на лицо» .
«Цель человечества, – говорит В. фон Гумбольдт, – есть развитие в своей среде наибольшего разнообразия. Для этого необходимы: свобода и разнообразие положений ».
Книга В. фон Гумбольдта писана еще в конце прошлого столетия, когда государственное начало было везде очень сильно (и в руках революционного Конвента еще сильнее, чем у монархов), и потому В. фон Гумбольдт боится, чтобы государство не задушило свободы лица развиваться своеобразно; а Дж. С. Милль гораздо больше боится общественного мнения и общей современной рутины, чем государственного деспотизма. В этом он, конечно, прав, но как мы ниже видим, продолжая, как и все либералы, верить в европейский прогресс и не понимая, что (для самой Европы, по крайней мере) прогресс есть не что иное, как неизлечимая, предсмертная болезнь вторичного смесительного упрощения ; он изыскивает для излечения вовсе не подходящие средства.
Будем продолжать выписки из его книги:
Заботы моралистов и многих честных буржуа, заботящихся только о том , чтобы народ работал смирно и не пьянствовал, – эти заботы он зовет со злобой «une marotte humanitaire de peu de conséquence» [15].
Он приводит слова Токвиля о том, что «французы позднейших поколений гораздо больше похожи друг на друга, чем их отцы и деды», и жалуется, что нынешние англичане, по его мнению, еще однообразнее французов.
И еще вот что говорит Милль об Европе:
«В прежнее время в Европе отдельные лица, сословия, нации были чрезвычайно различны друг от друга; они открыли себе множество разнообразных исторических путей, из коих каждый вел к чему-нибудь драгоценному; и хотя во все эпохи те, кои шли разными путями, не обнаруживали терпимости друг к другу, хотя все они сочли бы прекрасным сделать всех других насильно схожими с самими собою, однако взаимные усилия их помешать чужому развитию редко имели прочный успех, и каждый в свою очередь вынужден был, наконец, воспользоваться благом, выработанным другими. По-моему, Европа именно обязана этому богатству путей своим разнообразным развитием. Но она уже начинает в значительной степени утрачивать это свойство (преимущество). Она решительно стремится к китайскому идеалу – сделать всех одинаковыми» .
И далее:
«Условия, образующие различные классы общества и различных людей и создающие их характеры, с каждым днем всё становятся однообразнее».
«В старину люди различных званий, разных областей, разных ремесел и профессий жили, можно сказать, в различных мирах. Теперь они живут почти в одном и том же мире. Теперь, говоря сравнительно с прежним, они читают одно и то же, слышат одно и то же, видят одинаковые зрелища, ходят в одни и те же места; их страх и надежды обращены на одни и те же предметы; права их одинаковы; вольности и средства отстаивать их – одни и те же. Как бы ни велики были еще различия в положениях, эти различия ничто перед тем, что было прежде. И «ассимиляция» эта все растет и растет! Все нынешние политические перевороты благоприятствуют ей, ибо они стремятся возвысить низшие классы и унизить высшие. Всякое распространение образованности благоприятствует ей, ибо эта образованность соединяет людей под одни и те же впечатления и делает вседоступным общий запас знаний и общечеловеческих чувств . Все улучшения путей сообщения помогают этому, ибо приводят в соприкосновение жителей отдаленных стран. Всякое усиление торговли и промышленности помогает этой ассимиляции , разливая богатства и делая многие желаемые предметы общедоступными. Но что всего сильнее действует в этом отношении – это установленное везде могущество общественного мнения (т. е., как выше было сказано, – мнение собирательной бездарности ). Прежде различные неровности и возвышенности социальной почвы позволяли особам, скрытым за ними, презирать это общее мнение; теперь все это понижается, и практическим деятелям и в голову не приходит даже противиться общей воле, когда она известна; так что для неконформистов нет никакой общественной поддержки. В обществе нет уже и теперь независимых властей, которые могли принять под свой покров мнения, противные мнению публики» .
Читать дальше