Правда, для того чтобы вообще увидеть человека, потребуется особое усилие, — и это странно в ту эпоху, когда он выступает en masse. [9] Как массовый человек (фр.).
Опыт, наполняющий все большим изумлением странника, движущегося среди этого невиданного, еще только начавшего Развиваться ландшафта, состоит в том, что он может целыми днями бродить по нему и в его памяти не запечатлеется ни одной личности, ни одного чем-либо выделяющегося человеческого лица.
Конечно, не вызывает никаких сомнений, что единичный человек уже не появляется, как в эпоху монархического абсолютизма, в совершенной пластичности на своем естественном, архитектурном и социальном фоне. Однако важнее то, что даже отсвет этой пластичности, перешедший на индивида благодаря понятию бюргерской свободы, начинает тускнеть и доходить до смешного везде, где на него еще обращают внимание. Так, некую усмешку начинает вызывать бюргерская одежда, и в первую очередь праздничные одеяния бюргера, равно как и пользование бюргерскими правами, в частности, — избирательным правом, а также личности и корпорации, которыми это право представлено.
Стало быть, подобно тому как единичный человек уже не может быть облечен достоинством личности, он не является уже и индивидом, а масса — суммой индивидов, их исчислимым множеством. Где бы мы не встретились с ней, нельзя не заметить, что в нее начинает проникать иная структура. Масса предстает восприятию в виде каких-то потоков, сплетений, цепочек и череды лиц, мелькающих подобно молнии, или напоминает движение муравьиных колонн, подчиненное уже не прихоти, а автоматической дисциплине.
Даже там, где поводом к образованию массы служат не обязанности, не общие дела, не профессия, а политика, развлечения или зрелища, нельзя не отметить этой перемены. Люди уже не собираются вместе — они выступают маршем. Люди принадлежат уже не союзу или партии, а движению или чьей-либо свите. Несмотря на то, что само время делает очень незначительной разницу между единичными людьми, возникает еще особое пристрастие к униформе, к единому ритму чувств, мыслей и движений.
Поэтому наблюдателя и не должно удивлять, что тут исчезли почти все следы сословного членения. Последние остатки сословного представительства находят себе прибежище на отдельных искусственных островках. [10] Пример такого искусственного островка — церковь кайзера Вильгельма в Берлине.
Сословные жесты, сословный язык и одеяния вызывают у публики удивление, если они как бы не ищут себе оправдание в каком-либо поводе, смысл которого можно охарактеризовать как некий праздничный атавизм. Места, где церковь принимает сегодня свои решения, находятся не там, где ее представители появляются в облачении священников, а там, где они выступают в одеждах политических уполномоченных. [11] В появлении ордена иезуитов и становлении прусской армии на исходе периода Реформации, если, конечно, судить исходя из гештальта рабочего, уже намечаются принципы работы.
Равным образом, война ведется не там, где солдат предстает в блеске сословных рыцарских отличий, а там, где он выполняет невзрачную работу, обслуживая рычаги своей боевой машины, где он в маске и защитном комбинезоне пересекает отравленные газом зоны и где он склоняется над своими картами под шум громкоговорителей и трескотню радиопередатчиков.
Подобно тому, как от сословного членения и от обилия лиц, представляющих соответствующие сословия, мы обнаруживаем лишь следы, можно видеть, что и разделение индивидов по классам, кастам или даже по профессиям стало по меньшей мере затруднительным. Всюду, где мы стремимся обрести порядок сообразно этической, социальной или политической классификации и найти свое место в нем, мы находимся не на решающих фронтовых позициях, а пребываем в одной из провинций XIX века, до такой степени выхолощенной за десятилетия деятельности либерализма с его всеобщим избирательным правом, всеобщей воинской повинностью, всеобщим образованием, мобилизацией земельной собственности и другими принципами, что любое дальнейшее усилие, предпринятое в этом направлении и с этими средствами, оказывается пустым баловством.
Однако, что пока еще невозможно усмотреть с такой же отчетливостью, так это то, каким образом начинает стираться в числе прочего и различие между профессиями. При первом взгляде у наблюдателя, скорее, не может не возникнуть впечатление их чрезвычайного многообразия. И все-таки существует большая разница между тем, как деятельность распределялась, скажем, между старыми гильдиями и как работа специализируется сегодня. Там работа — это постоянная и допускающая деление величина, здесь она — функция, тотально включенная в систему отношений. Поэтому не только многие вещи, о которых прежде это не привиделось бы и во сне, как, скажем, футбольные матчи, выступают здесь в виде работы, — но ее тотальный характер все мощнее пронизывает собой специальные области. Тотальный же характер работы есть тот способ, каким гештальт рабочего начинает проникать в мир.
Читать дальше
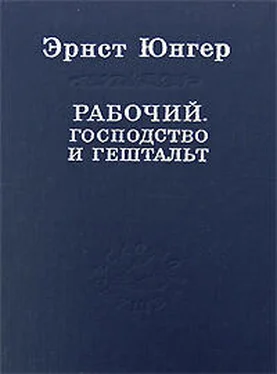
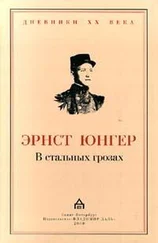
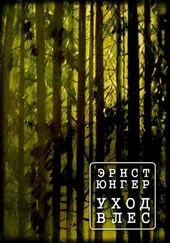

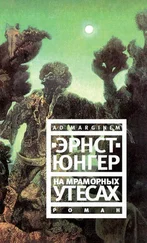
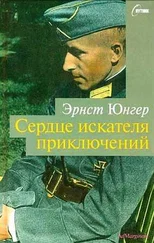

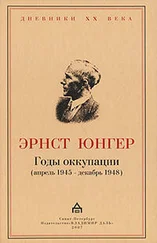


![Эрнст Юнгер - Стеклянные пчелы [litres]](/books/410842/ernst-yunger-steklyannye-pchely-litres-thumb.webp)

